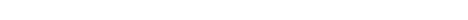Глава 9
Рабочие. - Навык к коллективным формам труда. - Русская
артель. - Забастовочное движение. - Самое передовое в мире рабочее
законодательство.
- Русские рабочие в значительной своей части были плоть от плоти
крестьянами. Многие из них, числясь крестьянами по паспорту и выполнив
летом сельскохозяйственные работы, шли зимой на заработки
на фабрики. Еще в конце XIX века на некоторых фабриках Московской
губернии до 80% рабочих летом уходили на полевые работы. Число отхожих
рабочих постоянно росло, составив в 90-е годы около 7 млн. человек.
Во многих русских губерниях, особенно на Урале, рабочие нередко
жили в собственных домах, имели покосы и огороды, держали коров,
мелкий скот, домашнюю птицу. Полукрестьяне, полурабочие несли в себе
все черты крестьянской культуры труда - трудолюбие, старательность,
добросовестность и, главное, склонность к общинным и артельным
формам труда. Русская рабочая артель являлась одним из устоев
народной жизни. Она была добровольным товариществом совершенно
равноправных работников, призванных на основе взаимопомощи и взаимовыручки
решать практически любые хозяйственные и производственные
задачи. Объединение людей в артель не только не ограничивало
дух самостоятельности и предприимчивости каждого артельщика, а,
напротив, поощряло его. Мало того, артель удивительным образом позволяла
сочетать склонность русского человека к самостоятельному и даже
обособленному труду с коллективными усилиями. Подчеркивая самостоятельность
и равноправие членов артели, старинная пословица
гласила: "Артели думой не владати. Сто голов - сто умов".
- Равноправием артели резко отличались от капиталистических предприятий;
попытки эксплуатации одних членов артели другими, как
правило, жестко пресекались (в этом плане артель была антикапиталистической
организацией). Причем равноправность не нарушалась предоставлением
каждому из членов распорядительной функции, так как
каждый из членов мог быть назначен товарищами на ее выполнение. В
некоторых артелях распорядительная функция выполнялась поочередно
каждым из артельщиков. Равноправие, конечно, не означало уравниловки -
распределение дохода осуществлялось по труду.
- Еще в конце XIX века артельные формы труда широко применялись
на русских заводах и фабриках. Артели, работавшие на русских заводах,
выбирали из своего состава старост, старшин и других выборных, а также
нередко писарей - для ведения общих дел. По обычаю заводские артели
могли решать вопрос наказания своих членов. Виновные в лености,
нерадении, небрежности, недобросовестности, пьянстве наказывались
своими же товарищами весьма сурово. По словесному приговору
артели за перечисленные выше вины ее член даже мог быть наказан розгами,
а часть причитающейся ему платы удерживалась в пользу артели.
- Каким же образом устраивались артельные формы организации труда?
Приведем пример Кушвинского завода на Урале, где артельные
формы организации труда существовали в кирпичном, листокатальном
и ударно-трубочном цехах. Ежегодно артели заключали договор, которым
определялись отношения как членов артели между собой, так и самой
артели к администрации завода. Члены артели получали все Heoбходимые
материалы от администрации завода по установленным ценам,
производили по своему усмотрению (но под наблюдением заводского
мастера) оговоренные объемы работ, а за них получали плату через
выборных доверенных. Заработок делился между членами артели
соразмерно количеству и качеству их труда.
- Древний навык к артельным формам рабочего труда служил предпосылкой
к передаче предприятия в руки рабочего самоуправления:
коллективам предприятий, объединенных в рабочую артель. По мнению
Д.И. Менделеева, побывавшего в конце XIX века на уральских
металлургических заводах, многие из них могли бы быть переданы артельно-кооперативному
хозяйству.
- В 1908 году артель из 100 человек взяла в аренду на 25 лет Дедюхинский
солеваренный завод. "Завод был сдан в жалком полуразрушенном
виде, так что оказался необходимым крупный ремонт. После энергичных
строительных работ летом 1909 года была пущена в ход первая
варница, затем вторая и третья, и в течение первого же года своей деятельности
артельный завод выпустил около полумиллиона пудов соли высокого качества".[1]
- Попытки рабочих взять заводы в аренду и работать там на артельных
началах неоднократно отмечались и перед самой революцией (но
наталкивались на сопротивление начальства). В 1905 году 400 семей
рабочих обратились к правительству с просьбой передать им в аренду
Нижне-Исетский железоделательный завод возле Екатеринбурга, который
государство хотело закрыть из-за его убыточности. Рабочие заявили,
что если завод будет сдан им в аренду, то они образуют товарищескую
артель, по уставу, утвержденному правительством, и займутся
производством железа, механических и кузнечных изделий. Однако министерские
чиновники не поддержали это предложение рабочих.
- Начальство, часто воспитанное на западноевропейских понятиях, в
большинстве случаев стремилось не к поддержке рабочих артелей, а к
насаждению чуждых для русского человека индивидуалистских форм
труда, видя в этом проявление прогресса. Бывший крестьянин или крестьянский
сын делался придатком машины, фабричным винтиком. Неудовлетворенность
таким трудом вызывала у рабочего чувство протеста и нередко
толкала его на саботаж, пьянство, прогулы, забастовки,
протесты против национального невежества начальства.
- Воспитанный артелью, русский рабочий имел навык к коллективному
протесту. Чем больше насаждались чуждые русскому рабочему западноевропейские
формы организации труда, тем сильнее развивалось
забастовочное движение. Если в 90-е годы количество забастовок
насчитывало сотни, то в начале XX века - тысячи. Еще больше росло
число бастовавших рабочих - с десятков тысяч в конце XIX века до
1,5 млн. в 1914 году.
- В развитии забастовочного движения русские рабочие показали
свою большую организованность перед западноевропейскими, у которых
дух коллективизма и трудовой демократии был развит гораздо слабее.
Если численность рабочих в России была меньше, чем в Западной
Европе и США, то забастовочная активность (число забастовок на одного
рабочего в год) в 5 раз выше активности немецких рабочих и в
3 раза выше американских.[2]
- Накал забастовочной борьбы был сильнее всего на крупных предприятиях,
в очень редких случаях он носил политический характер, а
чаще всего причиной забастовок служило западноевропейское самодурство
и национальное невежество начальников и предпринимателей, пытавшихся
за счет рабочих решать свои экономические проблемы, урезая
заработки и обкрадывая рабочих непосильными штрафами.
- Царь Николай II, как и его отец, уделял огромное внимание рабочему
вопросу. Под его наблюдением было создано самое передовое для
того времени рабочее законодательство.
- Важнейшим мероприятием, значительно содействующим улучшению
положения рабочих, явились правила по регламентации условий
фабрично-заводского труда и учреждение с этой целью фабричной инспекции.
Закон о найме рабочих на фабрики подчинил внутренний распорядок
работы на фабриках надзору фабричных инспекторов, детский
труд был запрещен, а несовершеннолетние и женщины не могли быть
нанимаемы на фабричную работу между 9-ю часами вечера и 5-ю часами утра.
- На фабриках, имеющих более 100 рабочих, вводилась бесплатная
медицинская помощь, охватывающая 70% общего числа фабричных рабочих (1898 год).[3]
- Закон 2 июня 1897 года впервые вводил нормирование рабочего дня.
По этому закону для рабочих, занятых днем, рабочее время не должно
было превышать одиннадцати с половиной часов в сутки, а в субботу
и предпраздничные дни - 10 часов. "Для рабочих, занятых, хотя бы отчасти,
в ночное время, рабочее время не должно превышать десяти часов
в сутки". Чуть позднее в промышленности России законодательно
устанавливается десятичасовой рабочий день. Для той эпохи это был
революционный шаг. Для сравнения скажем, что в Германии вопрос об
этом только поднимался.
- В 1903 году вводятся рабочие старосты, избирающиеся фабрично-заводскими
рабочими на цеховых собраниях. В этом же году входит в силу
закон о вознаграждении потерпевших от несчастных случаев на производстве,
обязывающий предпринимателя выплачивать пособие и пенсию
потерпевшему или его семье в размере 50-66% содержания потерпевшего.
По этому закону, "владельцы предприятий обязаны вознаграждать
рабочих, без различия их пола и возраста, за утрату более чем на
три дня трудоспособности от телесного повреждения, причиненного им
работами по производству предприятия или происшедших вследствие
таковых работ". "Если последствием несчастного случая, при тех же условиях,
была смерть рабочего, то вознаграждением пользуются члены
его семейства". Вводится также страхование по болезни, охватывающее
2,5 млн. рабочих, организуются больничные кассы, формируемые на 40%
за счет средств предпринимателя.[4] В 1906 году возникли рабочие профсоюзы.
И наконец, Законом 23 июня 1912 года в России вводится обязательное
страхование рабочих от болезней и от несчастных случаев.
- Мы уже говорили, что заработки русских фабрично-заводских рабочих
были одни из самых высоких в мире, опережая заработки рабочих
западноевропейских стран. Более того, уровень безработицы в России
1900-1910 годов был значительно ниже, чем в других странах, и не
превышал 1-2% рабочей силы даже в Москве и Петербурге.
- Таким образом, у русских рабочих было мало причин недовольства существующим строем.
Глава 10
Патриотическое движение. - "Русский труд" С.Ф. Шарапова. -
Русское Собрание. - Идеи русских патриотов. - Борьба с засильем
иностранцев и инородцев.
- Патриотическое движение России конца XIX - начала XX века носило
здоровый характер, вызывалось чувством самосохранения русской
нации. Оно не было направлено на угнетение или подавление других
народов, а лишь отстаивало хозяйские права русских на своих территориях.
"Мы, русские, - писал М.О. Меньшиков, - долго спали, убаюканные
своим могуществом и славой, - но вот ударил один гром небесный
за другим, и мы проснулись и увидели себя в осаде - и извне,
и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев,
постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но
и господство над нами, причем наградой за подчинение наше служит
их презрение и злоба против всего русского". Меньшиков, как и многие
другие выдающиеся представители русского патриотического движения,
не был против культурного самоопределения народов России на
их исторических территориях, но выступал решительно против захвата
представителями этих народов хозяйских прав на этнических русских
территориях. И тот же Меньшиков высказывал общую для многих русских
патриотов позицию самосохранения нации - "долой пришельцев".
"Если они хотят оставаться евреями, поляками, латышами и т.д. на нашем
народном теле, то долой их, и чем скорее, тем лучше... Допуская
иноплеменников, как иностранцев... мы вовсе не хотим быть подстилкою
для целого рода маленьких национальностей, желающих на нашем
теле размножаться и захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого,
но наша - Русская земля - должна быть нашей".[1]
- Русское патриотическое движение ополчалось против антирусской
крамолы, против всех врагов Русской цивилизации. В конце XIX - начале XX
века это движение было еще слабо организовано и развивалось
в виде различных собраний возле русских церквей, благотворительных
купеческих чайных, читален, Народных домов, кружков вокруг
патриотических органов печати, например газеты "Русский труд".[2]
- Великим событием русской жизни начала двадцатого века стали
труды выдающегося русского богослова и духовного писателя
С.А. Нилуса, сыгравшего большую роль в формировании православно-патриотического
сознания русских людей. Следуя народной духовной
традиции, Нилус доходчиво и убедительно предостерегал Русский народ
о деяниях грядущего антихриста, на конкретных примерах показывал,
что спасение Отечества возможно только на путях твердой беззаветной
веры и покаяния в грехах. Наряду со святым Иоанном Кронштадтским С.А.
Нилус в своих книгах "Близ есть, при дверех", "Великое в малом",
"На берегу Божьей реки" наиболее зримо видел будущие
испытания России и раскрывал перед всеми ее злейших врагов.
- В 1901 году ему была передана рукопись на французском языке, рабочие
документы - не то тайной масонской ложи, не то съезда сионистов
( Нилус сам не знал точно). Смысл и характер документов раскрывался
в их содержании - до мелочей разработанная программа достижения
мирового господства неким тайным правительством. В планы тайного
правительства входили полный контроль над финансовыми центрами
мира, создание послушных закулисе марионеточных "демократических"
правительств, ликвидация всех национальных движений, кроме еврейского,
манипуляция средствами массовой информации, развязывание
мировых войн для разрушения национальных государств, подмена Христианской
Церкви суррогатами веры и сатанинскими культами.
- Обнародование этого документа, получившего впоследствии название
"Протоколы сионских мудрецов", имело огромное значение для информации
русских людей и всего православного мира об опасности, которая нависла над ним и Россией.
- Впервые документ[3] был широко опубликован русским писателем
П.А. Крушеваном в 1903 году в петербургской газете "Знамя" (28 августа -
7 сентября) под названием "Программа завоевания мира евреями",
а затем перепечатан русским ученым Г.В. Бутми в 1905 году.
- Однако широкий общественный резонанс документы тайного правительства
получили после публикации их в книге С.А. Нилуса "Великое
в малом", вышедшей в декабре 1905 года в Царском Селе при содействии
фрейлины Императрицы Е.А. Озеровой (впоследствии жена
писателя). Книгу эту прочитала царская семья, она хранилась в библиотеке
Николая II, а отправляясь в тобольскую ссылку, Царь взял ее с
собой. Издание С.А. Нилуса оказалось наиболее влиятельным и впечатляющим,
так как было органично связано с русской православной
традицией - ставило замыслы тайного правительства в прямую связь
с "деющейся тайной беззакония" - с библейскими и церковными пророчествами
о конце мира и истории и наступающем царстве антихриста.
События XX века явили собой наглядную и убедительную иллюстрацию[4]
исполнения программы тайного правительства, в свете чего не
имеет никакого смысла вступать в полемику о степени подлинности этих документов.
- С.А. Нилус внес огромный вклад в исследование роли и значения
масонства в борьбе сил тьмы против Русской Церкви. В книге "Близ
есть, при дверех" он дает определение масонства с позиции православной веры:
- 1) франкмасонство есть тайное общество христиан-отступников
вместе с язычниками, негласно руководимое вождями еврейского народа
и имеющее целью разрушение Церкви Христовой и монархической
государственности, преимущественно же христианской;
- 2) франкмасонство есть анти-Церковь, или церковь сатаны, преддверие
церкви грядущего антихриста;
- 3) франкмасонство есть "Вавилон", "блудница великая, сидящая на
водах многих" (Откр. 12, 13);
- 4) франкмасонство есть "тайна беззакония" (2 Сол. 2, 7);
- 5) франкмасонство есть продолжение на земле начатого на небе бунта сатаны против Бога>.
- Одним из ярких выразителей русского патриотического движения
конца XIX века (понимавшим, подобно Нилусу, корни зловещего заговора
против России) был С.Ф. Шарапов, замечательный русский мыслитель
и публицист, издатель ряда печатных органов, и в частности,
"Русское дело" и "Русский труд", автор многочисленных книг и статей.
Шарапов выступал за сохранение и развитие коренных начал Русского
народа, и прежде всего общины, артели, местного самоуправления,
отстаивая плодотворную идею приходского самоуправления, которое
должно прийти на смену городским и земским учреждениям. Большое
место в деятельности Шарапова занимали борьба с чужеродным засилием
и противостояние откровенно антирусским силам.
- 26 января 1901 года товарищ министра внутренних дел сенатор
П. Дурново утвердил устав патриотической организации "Русское собрание",
поставившей своей целью "содействовать выяснению, укреплению
в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих
начал и бытовых особенностей Русского народа".
- В процессе деятельности "Русского собрания" кристаллизуются и
приобретают завершенную форму основополагающие принципы русской
патриотической мысли, давшие толчок развитию всего русского
общественного движения и ставшие основой программы многих патриотических организаций.
- Принципы эти были таковы:
- - Православная Церковь должна сохранить в России господствующее
положение. Ей должна принадлежать свобода самоуправления и
жизни. Голос ее должен быть выслушиваем законодательной властью в
важнейших государственных вопросах;
- - в основании церковного и государственного строительства должно
быть положено устройство прихода как правоспособной и дееспособной
церковно-гражданской общины;
- - Царское Самодержавие, будучи главным залогом исполнения Россией
ее всемирно-исторического призвания, в то же время является залогом
внешнего государственного могущества и внутреннего государственного
единства России. Российское Самодержавие основывается на
постоянном единении Царя с народом. Царь не тождественен в глазах
Русского народа с правительством, и последнее несет на себе ответственность
за всякую политику, вредную Православию, Самодержавию и Русскому народу;
- - верховным мерилом деятельности государственного управления
под самодержавным Царем в единении его с народом должно быть народное
благо, причем государство, открывая достаточный простор для
местного самоуправления, должно блюсти, чтобы это самоуправление
нигде не клонилось к ущербу русских народных интересов - религиозных,
умственных, хозяйственных, правовых и политических;
- - просвещение в России должно расти и крепнуть на тех же началах,
на которых выросла русская государственность, а поэтому и государственная
школа, не посягая на культурное самоопределение народностей
России, должна быть русской школой;
- - русский язык есть государственный язык, и все правительственные
учреждения обязаны пользоваться государственные языком;
- - вооруженные силы и оборона границ должны быть доведены до
совершенства, соответствующего величию России, причем все необходимое
для государственной обороны должно создаваться внутри страны ее
средствами и трудом ее народа, а бремя содержания военных сил
должно лечь равномерно на население всего государства;
- - национальные вопросы в России разрешаются сообразно степени
готовности отдельной народности служить России и Русскому народу
в достижении общегосударственных задач. Управление окраинами
должно ставить на первое место общегосударственные интересы и поддержку
законных интересов русских людей. Все попытки к расчленению
России под каким бы то ни было видом не должны быть допускаемы.
Россия едина и неделима. Еврейский вопрос должен быть разрешен
законами и мерами управления особо от других национальных вопросов
ввиду продолжающейся стихийной враждебности еврейства к
христианству и нееврейским национальностям и стремления евреев к
всемирному господству;
- - финансовая и экономическая политика должна быть направлена
на освобождение зависимости России от иностранных бирж и рынков
и должна покровительствовать возникновению промышленных предприятий
и содействовать производительному труду. Сельскохозяйственная
политика предполагает благоустройство крестьянства путем
улучшения культуры земледелия, развития кустарных промыслов и
увеличения площади крестьянского землевладения. Особенное внимание
должно быть обращено на подъем коренного русского центра.
- Первоначальная численность "Русского собрания" составляла не более
двухсот человек, однако уже к 1906 году его ряды выросли до
4,5 тыс. человек. Кроме Москвы и Петербурга, отделения "Собрания"
имелись в 15 городах (Пермь, Харьков, Одесса, Варшава, Вильно, Казань и др.).
"Собрание" избирало Совет из 17 человек, в состав которого
входили князь Д.П. Голицын (председатель), граф П.Н. Апраксин,
князь В.В. Волконский, камергер И.С. Леонтьев (товарищ председателя),
граф Н.Ф. Гейден, Н.А. Энгельгардт.
- Ближайшими задачами общества стало изучение явления русской и
славянской народной жизни, разработка вопросов русской словесности,
художеств, народоведения, права и народного хозяйства, а также сохранение
чистоты и правильности русской речи.
- "Русское собрание" устраивало заседания, вечера, разные зрелищные
мероприятия, выставки. Проводились конкурсы и присуждались награды,
издавались книги и сборники, организовывались путешествия по России.[5]
- Истинные русские патриоты, естественно, основывались на идеях нерушимого
царского Самодержавия и отрицания западноевропейского
парламентаризма, так называемого Самодержавия народа. Автор замечательной книги
"Монархическая государственность" Л.А. Тихомиров,
прошедший через юношеские заблуждения социализмом, писал в обращении
к Царю, выражая главный итог русской патриотической мысли
конца XIX века: "Чрезвычайную пользу... я извлек из личного наблюдения
республиканских порядков и практики политических партий. Нетрудно
было видеть, что Самодержавие народа, о котором я когда-то
мечтал, есть в действительности совершенная ложь и может служить
лишь средством для тех, кто более искушен в одурачивании толпы. Я
увидел, как невероятно трудно восстановить или воссоздать государственную
власть, однажды потрясенную и попавшую в руки честолюбцев.
Развращающее влияние политиканства, разжигающего инстинкты, само
бросалось в глаза. Все это осветило для меня мое прошлое, мой горький
опыт и мои размышления и придало смелости подвергнуть строгому пересмотру
пресловутые идеи французской революции. Одну за другой я
их судил и осуждал. И понял, наконец, что развитие народов, как всего
живущего, совершается лишь органически, на тех основах, на которых
они исторически сложились и выросли, и что поэтому здоровое развитие
может быть только мирным и национальным...
- Таким путем я пришел к власти и благородству наших исторических
судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом
власти, поднятой превыше всяческих алчных стремлений честолюбцев.
Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое
орудие его благосостояния и совершенствования составляет верховная
власть с веками укрепленным авторитетом".
- К концу XIX века яд чужебесия отравил большую часть образованного
общества, терялся навык к самоуправлению, который всегда был
присущ Русскому народу. Вместо развития самобытных форм самоуправления
интеллигенция предлагает либо западноевропейские схемы
управления, либо социалистические утопии.
- Что случилось с Русским народом, спрашивал русский мыслитель
С.Ф. Шарапов, почему он разучился самоуправляться и как будто
"ищет внешнего начальства, внешнего распорядка, не веря сам себе?"
- Да, это явление беспокоило истинно русских патриотов. Они видели,
как полнокровная общественная жизнь, которой некогда жила Россия,
заменяется жизнью "демократической толпы". Древняя Русь знала
своих лучших людей, Россия конца XIX - начала XX века знает преимущественно
только разрекламированных людей, - людей, угодных
определенным темным силам и выдвигаемых ими вперед.
- "Что нужно для развития самоуправления сельского, земского или
городского? - спрашивал тот же Шарапов и сам давал ответ: - Нужны,
во-первых, люди, способные действовать и распоряжаться в широкой
сфере общественных дел. Этот элемент у нас, бесспорно, есть.
- Во-вторых, нужны люди, которые бы интересовались общественными
делами, понимали их и дорожили ими. И это у нас есть. Эти люди
естественным образом болеют общею болью о родном селе, городе, уезде.
И этих людей у нас слишком достаточно.
- В-третьих, нужно, чтобы все остальное население близко знало и ценило
этих людей обеих категорий, безусловно им доверяло и без колебания
выдвигало вперед, когда на очередь ставится общественное дело.
- Вот этого третьего условия мы совершенно не имеем. Оно составляет
принадлежность правильно организованной общественной жизни и
исчезает вместе с разложением последней".[6] Шарапов поднимает важнейшую
общественную проблему - оттеснение от власти живых патриотических
сил и замену их псевдообщественными деятелями либерального
или социалистического толка, ставившими своей целью не
развивать, а разрушать национальные основы России.
- Самоуправление, особенно городское и земское, деградирует, приобретает
западноевропейский характер полного отстранения от власти
простого человека с заменой ее властью денежного мешка.
- Одна из плодотворных идей русского патриотического движения
конца XIX века - движение за возрождение приходского самоуправления
которое должно было заменить собой "власть толпы" - городское и земское управление.
- Приход, бывший в допетровские времена одной из главных форм общественного
самоуправления, позднее превратился в чисто административную
единицу духовного ведомства, место соединения населения для
молитвы и регистрации гражданского состояния. Патриотические силы
предлагают вернуть приходам, прежде всего в городах, их прежнее всеобъемлющее
значение. Одними из главных органов, в которых обсуждались
идеи возрождения приходского самоуправления, стали газеты
"Русское дело" и "Русский труд", выпускаемые С.Ф. Шараповым, ставшим
одним из ведущих идеологов этого движения. Основной городской
территориальной единицей, считал С. Шарапов, должен быть поставлен
приход, и это должна быть единица не только вероисповедная, но и административная,
судебная, полицейская, финансовая, учебная, почтовая
и т.п. Всякий постоянный житель прихода, неопороченный судом и достигший
определенного возраста, должен быть полноправным членом
прихода, избирателем и избираемым. Под сенью Церкви, справедливо
полагал Сергей Федорович, не может быть вопроса о сословности, имущественном
неравенстве или каком-либо цензе, кроме чисто нравственного,
в виде доверия и уважения соседей, основанного на долгом и тесном
знакомстве с человеком. Только при этих условиях и возможен правильный
выбор истинных представителей местных интересов.
- Во главе прихода должен стоять выборный приходской голова, который
будет управлять приходом вместе с другими приходскими властями:
священником, приходским судьей, приходским полицейским
приставом, приходским сборщиком податей, заведующим приходскими
школами, приходским врачом, все вместе составляющими приходской
совет. Деятельность его должна направляться и проверяться приходским
собранием уполномоченных, избираемых всем населением прихода.
Это же собрание будет выбирать и гласных в Городскую думу.
- Приход должен иметь права юридического лица - иметь свое имущество,
свои учреждения и предприятия, т.е. быть полноправной юридической
и хозяйственной единицей в составе государства. "Вне прихода
ни государство, ни город, ни земство не должны иметь дела с отдельным
человеком, ибо только при этом будет гарантировано внутреннее
единство и целость нашего национального единства, столь угрожаемого
в последнее время наплывом и бесконтрольным хозяйничаньем
всякой иностранщины, которая тихо и незаметно затопляет Россию".
- Шарапов справедливо отмечает, что приходское самоуправление
позволит прекратить "такое страшное явление, как постепенное вытеснение
и замещение русского элемента иностранцами и инородцами,
идущее теперь полным ходом и, по-видимому, никем не замечаемое, и
обратило бы на это внимание. В приходе все на виду, приход сразу заметил
бы неестественный прилив чужеродного элемента и поднял бы тревогу".[7]
- Шарапов, без преувеличения, являлся классиком русской экономической
мысли, до сих пор не понятым и не оцененным. Многогранный
ученый и общественный деятель, он создал труд, в котором концентрируются
важнейшие основы русской экономической мысли. Хотя сам
автор назвал его очень скромно - "Бумажный рубль (его теория и
практика)", на самом же деле это обобщающий труд, который правильнее
назвать "Экономика в Русском Самодержавном Государстве".
- Шарапов постоянно подчеркивает совершенно самобытный характер
русской хозяйственной системы, условия которой совершенно противоположны
условиям европейской экономики. Наличие общинных
и артельных отношений придает русской экономике нравственный характер.
Русские крестьяне являются коллективными земледельцами.
Им не грозит полное разорение, ибо земля не может быть отчуждена от них.
- Отмечая нравственный характер русской общины, Шарапов связывает с
ней развитие возможностей хозяйственного самоуправления, тесной
связи между людьми на основе Православия и церковности. Главный
единицей духовного и хозяйственного развития России, по мнению Шарапова,
должен стать тот же церковный приход.
- Идеалом Шарапова была независимая от западных стран развитая
экономика, регулируемая сильной самодержавной властью, имеющей
традиционно нравственный характер. Даже покупательная стоимость
рубля, по мнению Шарапова, должна основываться на нравственном
начале всенародного доверия к единой, сильной и верховной власти, в
руках которой находится управление денежным обращением. Самодержавное
государство должно играть в экономике ту роль, какую на Западе
играют крупнейшие банки и биржи. Государство ограничивает
возможности спекулятивной наживы, создает условия, при которых паразитический
капитал, стремящийся к мировому господству, уже не сможет существовать.
- Вместо шаткой и колеблющейся золотой валюты, связанной со всеми
неурядицами мирового рынка, Шарапов предлагает введение абсолютных
денег, находящихся в распоряжении центрального государственного
учреждения, регулирующего денежное обращение. Введение
абсолютных денег ликвидирует господство биржи, спекуляцию, ростовщичество.
Шарапов не был противником частного предпринимательства,
но считал, что оно должно носить не спекулятивный, а производительный
характер, увеличивая народное богатство.
- В круг единомышленников С.Ф. Шарапова входили также такие замечательные
русские ученые, как А. Фролов и Г.В. Бутми.
- А. Фролов стоял на позиции финансово-хозяйственной независимости
России от Запада. Валютный курс рассматривал как отражение устойчивости
экономического строя страны. Считал, что для России валютный
курс определяется преимущественно ценами на хлеб, предлагал
организацию государственных хлебных запасов, за счет которых
могли бы поддерживаться устойчивые цены на хлеб в неурожайные годы.
Предлагал создание внутренней кредитной валюты, независимой от зарубежных рынков.
- Бессарабский землевладелец Г.В. Бутми активно выступал против
финансовой политики С.Ю. Витте. В своих работах он раскрывал сущность
паразитического капитала, создавшего такой мировой хозяйственный
порядок, который позволяет кучке банкиров управлять абсолютным
большинством человечества. Бутми доказывает, что финансовые
манипуляции с золотой валютой обогащают небольшую группу
банкиров за счет остального человечества. Природные ресурсы страны
переходят под власть международных банкиров, отечественная промышленность
несет большие убытки. Экономические ресурсы страны автоматически
перекачиваются в пользу западных владык, остановить которых
может только твердая власть Самодержавного государства.
- Патриотические силы выдвигают и свой вариант решения рабочего
вопроса. В отличие от предлагаемых либералами и леворадикалами
планов объединения рабочих в тред-юнионы по западноевропейскому
образцу русские патриоты выдвигают идею сплочения и развития рабочих
путем создания рабочих общин. Так, выдающийся русский мыслитель
Л.А. Тихомиров писал: "Рабочие союзы должны были бы
явиться у нас не узкопрофессионально экономическим учреждением,
но некоторой общиной, объединяющей фабрично-заводских рабочих во
всех главных отраслях их нужд. Крестьянин, являясь в город из своей
деревни, попадал как бы в ту же привычную ему общину, но только более развитую...
- Эта цель не заключает в себе ничего революционного, она не требует
какого-либо переворота в России, только, наоборот, требует достройки...
Будущее рабочее сословие, естественно, должно состоять из рабочих
общин. Цель рабочих союзов состоит в том, чтобы послужить постепенным
переходом в рабочие общины". По мнению Тихомирова, рабочие
общины должны находиться в постоянной связи с сельскими
крестьянскими общинами для совместного устройства в деревне хороших
приютов для "нуждающихся в воздухе, отдыхе и поправке". В
сельские общины можно устраивать вдов и сирот городских рабочих и,
наконец, направлять их самих на заслуженный отдых. "Такая связь городских
рабочих с деревенскими собратьями усилит независимость городских рабочих..."
- Аналогичные с Л.А. Тихомировым мысли разделял и Д.И. Менделеев,
мечтавший творчески использовать навыки русского человека к
общинному и артельному труду.
- Для врагов России патриотическое движение служило постоянным
объектом нападок. Делалось все, чтобы дискредитировать и извратить
в глазах общества цели и дела патриотов. Леволиберальные круги не
гнушались никакой ложью и клеветой. Особенно изощрялись еврейские,
польские и финские националисты. Но не отставала и русская
интеллигенция. Журналы и газеты русского национального направления
интеллигенцией не читались, так как считались реакционными.
Слой истинно русской патриотической интеллигенции был очень узок
и постоянно подвергался травле.
- Либеральное российское дворянство и аристократия в силу своего
западного воспитания и образования относились к русскому патриотическому
движению неприязненно или просто враждебно. Для них оно
было "примитивно и грубо, некультурно" и "вредно-реакционно".[8]
Правда, многие из них считали себя тоже патриотами, только их патриотизм
состоял в том, чтобы сделать Россию похожей на Запад.
- Антирусские силы стремятся перевести работу патриотического движения
с творческих начал в русло сутяжничества и склок. Против патриотов
нанимаются продажные адвокаты, засыпающие суды заявлениями со
вздорными обвинениями. Патриотов обвиняют в подготовке еврейских
погромов, утверждают, что через них правительство проводит антисемитскую политику.
- Позднее комиссия Временного правительства с большим пристрастием
изучала материалы, касающиеся патриотического движения в
России, пытаясь найти доказательства организации еврейских погромов
царским правительством. Но, несмотря на старания, не было получено
ни одного доказательства чему-либо подобному. Напротив, все материалы
свидетельствуют, что антиеврейское движение шло снизу и
имело не столько национальный, сколько социальный характер, выражая
ненависть простого народа к презиравшим его угнетателям.
- Выступления против евреев чаще всего были средством самозащиты
простого народа. Более того, власти большей частью не только не контактировали
с патриотическими организациями, но находились с ними
в напряженных, а часто даже враждебных отношениях. Местным властям
патриоты мешали жить спокойно своими постоянными жалобами
на еврейский произвол и требованиями навести порядок. Но власти по
разным причинам предпочитали не связываться с евреями и зачастую
закрывали глаза на нарушения закона с их стороны. Патриоты об этом
говорили прямо, зачастую в резкой форме. Сохранилось много жалоб
патриотически настроенных граждан на попустительство властей еврейской буржуазии.
- В начале XX века еврейская печать ведет кампанию травли русского
писателя-патриота П.А. Крушевана, выпускавшего журнал "Бессарабец",
где смело боролся против еврейского засилья в Южной России.
На него клевещут, пытаются убить (серьезно ранив из-за угла). Подобные
же методы используются против министра внутренних дел Плеве.
Во многих изданиях леворадикальной, еврейской печати публикуется
письмо, где Плеве якобы поощряет еврейские погромы. При проверке
письмо оказывается фальшивкой. Но эффект достигнут, а опровержение
мало до кого доходит. В июле 1904 года подстрекаемые еврейскими
националистами террористы убивают русского министра.
- Патриотические силы предприняли свои шаги. К концу 1904 года
активизирует работу "Русское собрание". В его недрах рождаются контуры
будущих патриотических партий, и прежде всего "Союза Русского Народа".
Глава 11
Дворянство. - Отход от традиции служения. - Желание жить не
хуже, чем в Западной Европе. - Несправедливые требования к Русскому
народу. - Любовь к иностранному. - Розовые космополиты. -
Незаслуженные привилегии. - Участие в спаивании народа.
- Атрофия национального сознания в образованном обществе имеет
начало в атрофии этого чувства у значительной части русского дворянства,
особенно происходящего из западнорусских земель. В дворянской
среде сложилась традиция искать себе зарубежных предков, ибо отечественные
считаются недостаточно почтенными. Дворяне с усердием сочиняют
себе родословные, чаще всего легендарные, в которых выискивают
себе родственников чуть ли не из Рима, но обязательно откуда-то
из Европы, на худой конец из татарских мурз.
- Если русский дворянин еще в конце XVII - начале XVIII века по
формам культуры, мировоззрению и воспитанию (преимущественно
церковному) ничем -не отличался от крестьянина и городского ремесленника
(различие состояло только в богатстве и количестве слуг), то
дворянин XIX и начала XX века стремится отгородиться от простого
народа. Он ориентируется на европейскую культуру, черпает оттуда образование,
язык, одежду и становится для своих простых соотечественников
иностранцем. Конечно, были и исключения, но не они определяли
тонус дворянского сословия. Да, дворяне продолжали оставаться на
службе России, но ее интересы начинают понимать весьма своеобразно,
как интересы своего сословия. Возникает культурный слой с оглядкой
на Европу и культурно связанный больше с ней, чем с Россией, которая
оставалась для него преимущественно местом службы и доходов
и которую он охотно покидал по мере возможности, проводя многие годы
за границей. Более того, сословие, ориентированное на военное служение
Отечеству, постепенно отходило от традиций воинской службы.
Если еще в XVIII и первой половине XIX века большая часть дворян
считала своим долгом и честью военную службу, то к началу XX века
таких людей стало меньшинство.
- "Как ни близко знал я своих земляков - крепостных рязанских
крестьян, - писал в конце XIX века П.П. Семенов-Тян-Шанский, -
как ни доверчиво относились они к своему... барину, но все-таки в беседах
об их быте и мировоззрениях, в заявлениях об их нуждах было
что-то недоговоренное и несвободное, и всегда ощущался предел их
искренности..." Правда, Семенов считал, что в этом сказывалось влияние
крепостного права. Конечно, было и это, однако причина коренилась
глубже. Русские крестьяне смотрели на своих господ как на чужаков
и зачастую весьма недружелюбно. Но и большая часть дворянства
России смотрела на простой народ в лучшем случае как доброжелательные
иностранцы, однако велико было и число тех, которые видели
в них своих врагов. "Знайте, что мужик - наш враг! Запомните
это!" - говорила дворянской молодежи княгиня П. Трубецкая (урож-
денная Оболенская).[1] И таких трубецких-оболенских было в России немало.
- Огромную роль в усилении социальной напряженности играли
чрезмерные потребности образованного слоя, ориентировавшегося на
западноевропейские стандарты потребления. Как справедливо отмечал
еще М.О. Меньшиков, со времен Петра Россия глубоко завязла на Западе
своим просвещенным сословием. Для этого сословия все западное
кажется более значительным, чем свое. "Мы, - пишет Меньшиков, -
глаз не сводим с Запада, мы им заворожены, нам хочется жить
именно так и ничуть не хуже, чем живут "порядочные" люди в Европе.
Под страхом самого искреннего, острого страдания, под гнетом
чувствуемой неотложности нам нужно обставить себя той же роскошью,
какая доступна западному обществу. Мы должны носить то же
платье, сидеть на той же мебели, есть те же блюда, пить те же вина,
видеть те же зрелища, что видят европейцы".[2] Чтобы удовлетворить
свои возросшие потребности, образованный слой предъявляет к Русскому
народу все большие требования. Интеллигенция и дворянство
не хотят понять, что высокий уровень потребления на Западе связан
с эксплуатацией им значительной части остального мира. Как бы русские
люди ни работали, они не смогут достичь уровня дохода, который
на Западе получают путем перекачки в свою пользу неоплаченных
ресурсов и труда других стран. Пусть дворянские имения дают
втрое больший доход, дворяне все равно кричат о разорении, потому
что их потребности возросли вшестеро. Чиновники получают тоже жалованье
в три раза больше, но все равно оно не может обеспечить им
европейского уровня потребления. Образованный слой требует от народа
крайнего напряжения, чтобы обеспечить себе европейский уровень
потребления, и, когда это не получается, возмущается косностью
и отсталостью Русского народа.
- Воспитывалось русское дворянство и вообще образованное общество
преимущественно на западных авторах.
- Первое, что читали дворянские недоросли, - это Майн Рид, Фенимор
Купер, Вальтер Скотт, Диккенс, Жюль Берн, Масэ, Гумбольт,
Шлейден, Льюис, Брэм. Русских авторов читали меньше, и были это
чаще всего Помяловский, Решетников, Некрасов, Гончаров, Тургенев;
меньше Писемский и Лермонтов, еще меньше Л. Толстой и Пушкин.
- Позднее круг чтения расширялся опять же за счет иностранных авторов -
Дж.Ст. Милля, Бокля, Дрэпера, Бюхнера, Вундта, а также
Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Считалось вполне нормальным
и даже признаком хорошего тона читать запрещенные книги, например
Герцена, Чернышевского, Берви-Флеровского. Как вспоминают
современники, нередко было, когда воспитатели собирали учеников
в кружок и прочитывали им с пространным толкованием "Что делать?"
Чернышевского и "Азбуку социальных наук" Берви-Флеровского.
Книги удивительно толстые и скучные, вызывающие у многих
"благоговейную" зевоту. В высшей школе уже читали Маркса, Огюста
Конта, Спенсера, Лассаля и других социалистических авторов, которых считали венцом прогресса.
- В результате такого чтения и воспитания, писал современник, <при
переходе в высшие школы мы (дворяне. - О.П.) были сплошь материалистами
по верованиям (мы "верили" в атомы и во все, что хотите)
и величайшими идеалистами по характеру. "Наука" была нашею религией,
и если бы было можно петь ей молебны и ставить свечи, мы бы
их ставили; если бы нужно было идти за нее на муки, мы бы шли... Религия
"старая", "попы" были предметом самой горячей ненависти именно
потому, что мы были религиозны до фанатизма, но по другой, по
новой вере. "Батюшка" читал свои уроки сквозь сон, словно сам понимал,
что это одна формальность, и на экзамене ставил отличные оценки.
Но нравственно мы все же были крепки и высоки. Чернышевский
и Писарев тоже ведь учили добродетели и проповедовали "доблесть".
Этой доблести, особой, юной, высокой и беспредметной доблести, был
запас огромный. Мы были готовы умирать за понятия, точнее, за слова,
смысл которых был для нас темен>.[3]
- Современники вспоминают, как организовывались тайные гимназические
и студенческие библиотеки, кассы взаимной помощи, издавались
рукописные и литографированные листки и журналы, которыми
обменивались с другими учебными заведениями. Для довольно значительного
слоя учащейся молодежи конспиративная, подпольная работа
против "реакционного" правительства становилась смыслом жизни. В
учебных заведениях тайно собирались специальные денежные фонды,
делались пожертвования, нередко в крупных размерах, на революционную
пропаганду. "... Мы готовы были на всякую антиправительственную
демонстрацию, потому что от души ненавидели так называемый
существующий строй. Ненавидели полицию, ненавидели военную и
всякую иную службу, жаждали, как манны небесной, конституции и за
одно это священное слово, наверное, любой из нас выбросился бы из
окна четвертого этажа".
- Берлинский трактат 1878 года, унизивший Россию (заключенный
путем разных закулисных сделок и сговоров), сильно повлиял на настроение
дворянства. Именно после этого национального унижения России на
этом горьком настроении складывается плеяда деятелей, сыгравших
позднее большую роль в либеральном и социалистическом движении.
Как отмечал И. Аксаков, Берлинский трактат стал поворотным
пунктом в новейшей русской истории, откуда неудержимо пошло наше
нравственное и политическое растление. "Не может живой народ вынести
подобного эксперимента! Нельзя видеть свою Родину оплеванною!
И еще хоть бы нас побили, - нет, нас обокрали интенданты и евреи,
и нас обошли дипломаты. Даже жаловаться не на кого.
- ...В молодежи неведомо откуда появилась злая струя, нам совершенно
чуждая. Мы были розовые космополиты, но на Россию смотрели снисходительно;
здесь вдруг появилась яркая ненависть ко всему русскому.
Мы мечтали о конституции и кричали "ура" Александру II, а из этой молодежи
анархисты формировали динамитчиков..." (С. Шарапов).[4]
- Пользуясь своим положением первого сословия, дворяне и в конце
XIX - начале XX века пытались сохранить свои привилегии и льготы,
на которые они, по своей сути, уже никаких прав не имели, так как не
являлись единственным служилым слоем общества.
- На поддержание дворянского землевладения через казенный ипотечный
кредит в конце XIX - начале XX века было израсходовано
6 млрд. руб. Дворяне получали огромные ссуды, сдавали земли арендаторам,
погашая проценты по банковскому кредиту за счет арендных
платежей, по сути дела, паразитировали за государственный счет. Государственная
опека над дворянами в ее разных формах - ссуды на
льготных условиях, освобождение от курсовых потерь, списание Государственным
банком многомиллионных долгов Дворянского банка -
осуществлялась в ущерб простому человеку. Конечно, если бы эта опека
оказывала благотворное влияние на правящее сословие, то это можно
было бы выдержать. Но на деле тепличные условия только деморализовывали
дворян, которые теряли всякий интерес к ведению нормального
хозяйства. Полученные ссуды и льготы проедались, а дворянские
хозяйства продолжали хиреть.
- Позором для русского дворянства как правящего сословия было участие
в спаивании народа. Еще Екатерина II закрепила за дворянами монопольное
право на производство винного спирта, которым они пользовались
вплоть до 1917 года. Но в конце XIX века их стали теснить
купцы, которые сумели организовать более совершенное и выгодное
производство водки. Чтобы поддержать благополучие дворянских винокуров,
в конце XIX века по инициативе Витте устанавливается порядок,
по которому казенные склады должны были принимать помещичий
спирт-ректификат на выгодных для дворян условиях. А потом уже
на государственных заводах из этого не всегда качественного сырья
изготавливалась водка.
Глава 12
Государственный аппарат. - Бюрократия. - Малочисленность
полиции и армии. - Ителлигенция и чиновничество. - Направления
государственной политики. - С.Ю. Витте, реформы, и интриги. -
С.В. Зубатое, поддержка тред-юнионизма и сионизма.
- Государственный аппарат России конца XIX - начала XX века был
очень далек от совершенства. Сформированный в подражание западным
образцам, он был во многом чужд Русскому народу, особенно крестьянству,
которое смотрело на чиновников с недоверием и враждой.
Уродливое детище западной цивилизации далеко не всегда отвечало
национальным интересам великой страны.
- Чуждость госаппарата народу придавали ее сложность и чрезмерная
иерархичность, чиновничья спесь и взяточничество. Высокая бюрократизация
государственного аппарата определялась не его излишней численностью,
а именно иерархической многозвенностью инстанций, могущих
задушить любое живое дело или инициативу. Что же касается численного
состава, то русский госаппарат по сравнению с западноевропейскими
странами отличался малочисленностью. Число чиновников
на тысячу жителей было в два-три раза ниже, чем в западноевропейских
странах. Еще малочисленней были органы охраны порядка и армия.
- С мая 1903 года в Европейской России устанавливается единая норма -
один полицейский служитель на 2,5 тыс. человек населения. Это
поразительно мало для страны, входившей в полосу национальных и
социальных неурядиц.
- Россия имела значительно меньший аппарат подавления, чем хваленые
демократические страны: Англия и Франция. Число полицейских
на тысячу человек населения было в этих странах в 5-9 раз больше, чем в России.[1]
- На борьбу с преступностью расходовались ограниченные средства.
Так, если на розыскную деятельность в столичных западноевропейских
городах расходовались миллионы франков, то в Петербурге на это же
выделялось 15 тыс. руб., или 60 тыс. франков.[2]
- Во многих сельских местностях вообще не было полицейских, а их
функции выполняли выборные от общины сотские. Порядок держался
не на полицейском принуждении, а на устоявшихся традициях.
- Был ли государственный аппарат России сильно милитаризован, как
это утверждали советские историки? Данные позволяют сказать категорически
"нет". Да, Россия имела самую большую армию в мире, составлявшую
в мирное время почти 1,5 млн. человек. Но к этому ее обязывали
протяженность границ и недружелюбная политика западных государств.
По степени милитаризованности Россия занимала одно из
последних мест среди других крупных государств мира. Так, если в
России количество солдат (в строю и в запасе) на тысячу жителей составляло
16 человек, то во Франции - 35 человек, в Германии - 23 человека,
в Австро-Венгрии - 25 человек.[3]
- По величине военных расходов Россия также находилась в последнем
ряду ведущих держав, по уровню расходов на одного военнослужащего
она уступала в 5 раз США, в 3 раза - Великобритании, 1,5-2 раза - Германии и Франции.
- Не ставя перед собой цели ведения агрессивно-наступательных операций,
Россия имела довольно скромный военно-морской флот, уступавший
всем ведущим западным державам.
- Основная часть чиновничества, особенно высшего и среднего, подбиралась
из дворянства. Из него же формировалось чиновничество и
на местном уровне. По сути дела, придатком государственного аппарата
были сословные организации дворянства, имевшие выборное представительство
в виде губернских и уездных предводителей дворянства.
Из числа местных дворян назначались земские начальники и прочие
чины местной администрации.
- Нельзя сказать, что служба в государственном аппарате пользовалась
большим престижем в обществе. Особенно с предубеждением к
ней относилась интеллигенция. А уж служба в полиции и жандармерии
у образованных людей считалась позором. Командиры отдельного
корпуса жандармов стеснялись появляться в жандармском мундире и
одевались "по-другому", "дабы не дразнить общественность". Курлов,
который не имел другого мундира, кроме жандармского, испросил специальное
Высочайшее соизволение на ношение общегенеральской формы,
в какой он и ездил по государственным делам.
- Не были в чести у образованного общества ни государственный
герб, ни государственный гимн России. Характерным является рассказ
Милюкова о случае в английском парламенте, где он после исполнения
английского гимна, когда музыка заиграла русский гимн, пропел
"Боже Царя храни". В леволиберальных кругах это было расценено
как холуйство перед властью и его долго поносили за "квасной патриотизм".[4]
Причем англичане пропели свой гимн с гордостью, а Милюков -
с чувством конфуза. Как должно было быть извращено национальное
чувство, если человек, русский по крови, стыдился своего национального гимна!
- Касаясь главных направлений государственной политики России,
рождавшихся в недрах ее государственного аппарата, прежде всего следует
отметить, что они сложились еще в царствование Александра III.
Одно из них исходит из необходимости усиления дворянства и помещичьей
власти как главного оплота государства посредством многообразной
государственной помощи и льгот, чаще всего за счет других сословий.
Сторонники этого подхода (в частности, князь В.П. Мещерский,
граф Д.А. Толстой) были очень влиятельны и сумели многого добиться.
Другое направление, выразителями которого являлись
М.Н. Катков и К.П. Победоносцев, было более сбалансировано и предполагало
государственную поддержку всем сословиям Русского государства,
а не только дворянству. Более того, его выразители считали необходимым
защитить простой народ от западнических верхов. "Главным
объектом их защиты, охраны" были крестьянская община, народные
традиции и обычаи. Все было очень хорошо, если бы не особый характер
этой охраны. Она предполагала своей целью "подморозить" Россию,
а не творчески продолжать ее начала, а это останавливало развитие многих
традиционных ценностей страны, обрекая их на превращение в этнографический
материал. Более того, представители охранительной идеологии
смотрели с глубоким подозрением на любые проявления живой
народной жизни, часто пытаясь втиснуть их в узкие рамки официальной
церковности и примитивно понимаемого Самодержавия.
- Почти все самые талантливые и выдающиеся государственные деятели
эпохи Николая II были убиты революционерами. Пули политических
бандитов ставили высшую точку в оценке их полезности для России.
Министры внутренних дел Сипягин и Плеве, московский генерал-губернатор
великий князь Сергей Александрович, председатель Совета
Министров Столыпин, многие тысячи других известных и малоизвестных
деятелей государственного аппарата пали от рук убийц, освободив
место менее достойным и менее способным к служению России. Причем
гибли исключительно те, кто занимал твердую патриотическую позицию.
Так, В.К. Плеве, злодейски убитый террористом, справедливо
утверждал, что "Россия имеет свою отдельную историю и специальный
строй". Он был убежден, что есть "полное основание надеяться, что Россия
будет избавлена от гнета капитала и буржуазии и борьбы сословий".
- Деятельность русского государственного аппарата в эпоху Николая II
проходила под знаком террора, и немало слабых душ (особенно
из высшей бюрократии) поддалось чувству страха и фактически капитулировало перед бандитами.
- Характерную западническую позицию в государственном аппарате
России занимал С.Ю. Витте. Еще в 1897 году он заявлял, что "в России
теперь происходит то же, что случилось в свое время на Западе:
она переходит к капиталистическому строю... и Россия должна перейти
на него. Это мировой непреложный закон". Этот видный деятель
государственного аппарата не принадлежал к коренным слоям Русского
народа. Его отец, предки которого были из Голландии, лютеранин, принявший
Православие, причислен к русскому дворянству только через
семь лет после рождения сына.[5] Сам Витте всегда старательно обходил
этот факт, акцентируя внимание на родственниках со стороны матери,
принадлежавших к древнему русскому роду Фадеевых. По-видимому,
именно от отца Сергей Юльевич получил тот неистребимый дух карьеризма,
который был свойственен ему всю жизнь. Конечно, это был не
примитивный карьеризм посредственного человека, а вдохновенное
движение личности, наделенной большим талантом и способностями,
но лишенной русского национального сознания. Витте нес в себе дух
людей, которых Россия в своей истории знала много, - людей пришлых,
приезжавших в страну "на ловлю счастья и чинов" и беспринципно
делавших свою карьеру, сообразуясь только с собственными интересами.
Когда в интересах карьеры Витте было выгодно поддерживать
отношения с патриотическими кругами и даже славянофилами, он
не колеблясь делал это и даже сам принимал участие в работе этих
кругов. Однако без угрызения совести отошел от них, когда почувствовал,
что в обществе набирает силу западническое либеральное движение.
Опираясь на поддержку патриотических кругов, Витте проделал
стремительную карьеру в государственном аппарате, заняв в 1892 году
пост министра путей сообщения, а уже через полгода еще более важный
пост - министра финансов. В своей деятельности на министерских
постах он проявил себя как талантливый человек на службе России,
но не русский человек, посвятивший себя Отечеству. Документальных
подтверждений его принадлежности к масонству нет, хотя слухи
об этом были очень упорны. Одно бесспорно - его постоянная связь
с русскими и заграничными кругами, враждебными царской власти.
- По-видимому, с самого начала царствования Витте занял по отношению
к Николаю II и его супруге не очень лояльную позицию, хотя
внешне и не выказывал. Это отношение проявилось во время серьезной
болезни Царя в 1900 году, когда даже возник вопрос о Наследнике
Престола. Витте предложил брата Царя - великого князя Михаила,
с которым был в хороших отношениях. И позднее, уже после своей отставки
с поста министра финансов в 1903 году, Витте (получив номинальную
должность) питал надежду снова прийти к власти путем устранения
Николая и воцарения великого князя Михаила. Зная характер
Михаила и его полную неподготовленность к государственным делам,
можно понять, что лукавый царедворец хотел стать сильным правителем
при слабом Царе. Эта интрига Витте, которую он обсуждал с директором
Департамента полиции А.А. Лопухиным,[6] конечно, не могла
улучшить его отношений с Царем и Царицей, которые вплоть до смерти
бывшего первого министра относились к нему как к опасному интригану.
- Обычно Витте приписывают заслугу стабилизации рубля и обеспечения
стране твердой валюты путем введения золотого обращения, а
также установления государственной монополии на продажу спирта,
вина и водочных изделий. Приоритет его в этих делах и заслуги в их
осуществлении далеко не бесспорны. Во-первых, введение золотого денежного
обращения не было инициативой самого Витте. Денежная реформа
втайне подготавливалась его предшественником И.А. Вышнеградским.
Во-вторых, введение золотого обращения проводилось за
счет карманов русских людей. На одну треть была осуществлена скрытая
девальвация рубля. Новый кредитный рубль приравнивался примерно
к 67 копейкам золотом. Конечно, эта операция позволила уменьшить
на треть внутренний государственный долг, но вместе с тем и потребовала
новых иностранных займов золотом для поддержания курса рубля.[7]
- Но главное состояло в другом. В результате введения золотого денежного
обращения русская экономика была тесно интегрирована в
мировом экономическом порядке, политику которого определяли западные
страны. Этот мировой порядок подразумевал первоначальный
обмен между странами, продающими сырье, и странами, продающими
промышленную продукцию. Цены на сырьевые ресурсы искусственно
сдерживались, а на промышленную продукцию специально подстегивались.
В результате страны - поставщики сырья были обречены на постоянную
выплату своего рода дани странам, более промышленно развитым.
По мере введения золотой валюты цены на сырьевые товары
падали. В результате происходил отток отечественных ресурсов за границу,
и прежде всего "бегство" самого золота, ранее полученного в виде
займов, но уже с многократной сторицей. "Россия, - справедливо
писал известный экономист М.И. Туган-Барановский, - поплатилась
многими сотнями миллионов золотых рублей из золотого запаса, вполне
непроизводительно растраченных нашим Министерством финансов
при проведении реформы 1897 года".[8]
- Через год после введения золотой валюты государственный долг
России по внешним займам превышал количество золота, находившегося
в обращении, а также в активах Государственного банка в России
и за границей.[9]
- Что же касается государственной монополии на продажу спирта, то
идея этого мероприятия принадлежала не Витте, а Каткову, Витте стал
только ее исполнителем. За 1893-1903 годы под руководством Витте
построены тысячи казенных винных складов, лавок, заводов, специальных административных зданий.
- Витте был талантливым министром финансов. Можно согласиться с
оценкой князя Мещерского, что для усиления государственной власти
ни один русский министр финансов не сделал так много, как
С.Ю. Витте своею "системой хозяйства, основанной на идее сосредоточения
всех ресурсов страны в одних руках".[10] При нем финансовая система
России превратилась в четко слаженный механизм.
- Витте был убежденным противником общины.[11] В 1899 году он способствует
принятию закона об отмене круговой поруки в общине. Следующим
этапом борьбы против общины становится создание по инициативе
Витте Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной
промышленности (1902 год). Витте пытается создать механизм "добровольного"
перехода крестьян от общинной к частной собственности. По
всей России учреждаются 82 губернских и 536 уездных дворянских комитетов,
выполнявших социальный заказ по разрушению общины. После проведения
определенной работы комитеты высказываются за "добровольный
переход крестьян от общинного владения землей к подворному".
В декабре 1904 года Витте выпускает в свет "Записку по крестьянскому
делу", в которой открыто нападает на общину. В результате
возмущенный Государь неожиданно для Витте 30 марта 1905 года закрывает Особое совещание.
- В политических интригах С.Ю. Витте часто не хватало чувства меры,
и он скатывался на авантюризм. Так было и в случае с интригой
против министра внутренних дел Плеве, место которого Витте хотел
занять. Как позже писал бывший начальник Департамента полиции того
времени Лопухин, министр финансов вместе с князем Мещерским
устроили настоящий заговор против Плеве, в который был вовлечен
небезызвестный полковник Зубатов.
- Заговорщики придумали такой план. Зубатов составил письмо, как
бы написанное одним верноподданным к другому и как бы попавшее к
Зубатову путем перлюстрации. В нем в горячих выражениях осуждалась
политика Плеве, говорилось, что Плеве обманывает Царя и подрывает
в народе веру в него. В письме проводилась мысль, что только
Витте способен повести политику, которая оградила бы его от бед и
придала блеск его царствованию. "Письмо верноподданного" должен
был передать Николаю II князь Мещерский, он же должен был убедить
Царя последовать предложению "верноподданного".
- План заговорщиков провалился, потому что Зубатов допустил
ошибку, посвятив в него секретного агента Гуровича, который тотчас
же выдал его Плеве. В день очередного доклада Плеве доложил Царю,
"какими интригами занимается его министр финансов. Это было в четверг,
а в пятницу министр финансов покинул свой пост".[12]
- Некоторые историки высказывали предположение о причастности к
убийству Плеве директора Департамента полиции Лопухина и даже
С.Ю. Витте. По сообщению вдовы Лопухина, ее муж имел информацию
о готовящемся убийстве Плеве и чуть ли не в сговоре с Витте намеренно
не принимал по ней мер.[13]
- Летом 1904 года после убийства Плеве С.Ю. Витте стремится занять
место министра внутренних дел, старательно интригуя, используя
все свои связи. Однако у Государя сложилось определенное мнение о
бывшем министре финансов как о масоне,[14] интригане и неискреннем
человеке. Возвращения его на активное государственное поприще Царь
не хотел. Министром внутренних дел тогда становится князь Святополк-Мирский.
- Одной из трагических фигур русского государственного аппарата
является личность жандармского полковника С.В. Зубатова. Свою сознательную
жизнь Зубатов начинал с участия в революционных кружках.
С середины 80-х годов Зубатов - сотрудник московского Охранного
отделения, где проделал путь от платного агента до начальника. С
1902 года он занимает важный пост начальника особого отдела Департамента
полиции. Под его контроль попадают сверхсекретные дела государства.
- Еще в последние годы XIX века Зубатов пытается осуществить идею
развития рабочего и сионистского движений под контролем полиции.
- В отношении рабочего движения Зубатов был чистый западник.
Вместо развития народных форм объединения тружеников, имеющих
прекрасные образцы в общине и артели, Зубатов предлагает русским
рабочим организоваться в тред-юнионы по западному образцу. И в
этом Зубатов не был оригинален. Ему казалось, что тред-юнионы для
русских тружеников - самая подходящая форма, могущая отвлечь их
от социалистического движения. Однако жандармский полковник плохо
знал национальную психологию русского работника, в течение столетий
привыкшего объединяться в союзы (артели, общины), совмещающие в себе
профессиональные и общественные организации. Предлагая
русскому работнику объединяться в тред-юнионы под контролем
полиции, Зубатов лишал рабочих привычного элемента общественной
жизни. А с этим национальное сознание русских рабочих не могло смириться.
- Если настоящие русские патриоты стояли за укрепление народных
начал жизни, то Зубатов и его соратники, не отрицая этих основ, тем
не менее в большей степени стремились уравновесить противоположные
силы - органичные народные и разрушительные западнические.
Созданные им рабочие и еврейские союзы в конечном счете приводят
к усилению значения подрывных социалистических движений и укреплению
позиций сионистских кругов ("воспитанные" им представители
еврейских организаций стали видными сионистами).
- Если русские монархисты видели в Царе силу, стоявшую над классами
и сословиями, то Зубатов допускал нормальным существование
элементов, противостоящих Царю. "Мое кредо, - писал Зубатов, - на
примирении, на уравновешивании борющихся сил".
- Развитие русского рабочего движения в западных формах не получалось.
Поэтому он решил эти формы создать искусственным путем.
По сути дела, Зубатов инициировал процесс развития рабочих в
социал-демократическом духе. Вместо искоренения антирусской крамолы
жандармский полковник стал ее усиленно выращивать. Полагая, что
сумеет контролировать созданную им рабочую организацию, Зубатов
сильно просчитался.
- Идеи Зубатова были очень сомнительны, и у него вряд ли что-либо
вышло, если бы он не сумел добиться поддержки большой группы высших
чиновников, разделявших его взгляды. Одним из них, в частности,
был обер-полицмейстер Москвы Д.Ф. Трепов, которого Зубатов
считал своим политическим учеником и даже другом. А позднее Зубатова
стал поддерживать и сам С.Ю. Витте.
- В 1901-1903 годах Зубатов организовал рабочие союзы в обеих столицах -
"Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом
производстве в Москве" и "Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга".
- Лидером нового рабочего движения стал агент Зубатова недостойный
священник Гапон. Костяк этого движения составляли люди, далекие
от интересов России, ставшие позднее видными теоретиками и
практиками сионизма, - М. Вильбушевич, Г. Шаевич, М. Гурович,
И. Шапиро (Сапир).
- Вот что об этом пишет в своих воспоминаниях Г. Гапон: <Однажды
Зубатов устроил свидание со мною в доме одного из своих друзей, где я
познакомился со многими лицами, игравшими видную роль в политическом
движении последних двух лет. Мария Вильбушевич и доктор Шаевич,
очевидно находившиеся под покровительством Зубатова, были основателями
так называемой "Еврейской независимой рабочей партии"...
- Должен сказать о них, что, несмотря на связь с полицейскими агентами,
они действительно симпатизировали революции и по собственным
причинам присоединились к Зубатову. Был там также и Михаил
Гурович, высокий брюнет, который, как я потом узнал, был в близких
отношениях со многими либералами и революционерами; благодаря
ему многие попали в Сибирь и в тюрьму. "Это наш большой друг и помощник", -
сказал Зубатов, представляя мне Гуровича... Был там и
доктор Шапиро - лидер сионистского движения. Зубатов, несомненно,
помогал им материально...>
- Сам Зубатов относился к своему детищу (рабочим организациям)
достаточно серьезно и искренне, а когда был отправлен в отставку, то,
прощаясь с Гапоном, даже заплакал, прося его не бросать дело организации
рабочих. И Гапон довел до логического конца идею Зубатова.
- Еще более опасной ошибкой Зубатова и его единомышленников стала
поддержка еврейского националистического движения расового превосходства -
сионизма. Понимание им сути этого движения поверхностно и
односторонне. Зубатов считал, что сионизм ставит своей целью
эмиграцию евреев в Палестину и создание там своего государства. На
самом деле это было одной, но не самой главной идеей сионизма. Главная
же цель сионизма состояла в организации всех евреев в единую
надгосударственную структуру, ставящую своей задачей достижение
влияния на всю мировую политику на началах расового превосходства
по сравнению с другими народами.
- Русский государственный строй сионисты считали своим непримиримым
врагом, конечно, не говоря об этом прямо в своих документах.
Этого полицейские чины, и прежде всего Зубатов, не понимали или понять
не хотели. Им казалось - жить будет легче, если они отвлекут
энергию евреев от революционного движения в России, сосредоточив
ее на чисто еврейских национальных вопросах. "Надо сионизм поддерживать
и вообще сыграть на националистических стремлениях", - писал
Зубатов, объясняя свою поддержку еврейских националистов. Значительная
часть его агентов были убежденными сионистами. Зубатову
казалось, что он использует их в своих интересах. На самом деле сионисты
использовали Зубатова и его соратников для создания и развития
широкой, хорошо разветвленной сети сионистских организаций.
- По сути дела, на деньги полиции и при ее всемерной поддержке возникает
мощная антирусская структура, связанная многими нитями с
собратьями за рубежом. Пройдет немного времени и эта организация
станет одним из главных инструментов разрушения русской государственной
власти, передаточным средством мощных антирусских импульсов из-за рубежа.