Журнальный зал "Русского переплета"
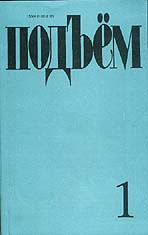 Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
МЕМУАРЫ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ
Борис Стукалин
КОНСТАНТИН СИМОНОВ
Имя Константина Симонова обрело широкую известность в годы войны. Помню с каким интересом мы, фронтовики, читали в ⌠Красной звезде■, других газетах его репортажи и очерки из самых горячих точек. Но, пожалуй, больше знали и ценили тогда Симонова как автора проникновенных лирических стихов. Многие вещи из книги ⌠С тобой и без тебя■, которые доносили до нас газеты и радио, переписывались, ходили по рукам, заучивались наизусть. Я уже не говорю о знаменитом стихотворении ⌠Жди меня!■, ставшим гимном верности, всепобеждающей силы любви. Оно было одним из самых любимых и близких солдатскому сердцу поэтических произведений.
К концу войны и в первые послевоенные годы читательское внимание привлекали симоновские военные повести и пьесы: ⌠Дни и ночи■, ⌠Русский вопрос■, ⌠Под каштанами Праги■ и др. Позже, в 60-70-е годы, мы зачитывались трилогией ⌠Живые и мертвые■, которую по справедливости следовало бы оценивать как наиболее впечатляющее, фундаментальное художественное полотно, дающее вполне достоверную картину драматических и героических событий тех лет, великого народного подвига. Роман-эпопея Константина Симонова, почти начисто забытый сегодня, по моему убеждению, еще вернется к читателю. Должен вернуться. Он заслуживает того.
Личное знакомство со знаменитым писателем и журналистом состоялось в 1965 году, когда меня перевели в ⌠Правду■ на должность заместителя главного редактора. К. Симонов работал тогда спецкором. Именно работал, а не только носил в кармане удостоверение правдиста, как некоторые его маститые коллеги. Он был легок на подъем, охотно ездил в командировки, брался за самые сложные темы. Состоял в редакционной парторганизации. И опять-таки это не было пассивным членством.
В силу служебных обязанностей (среди моих подшефных были отделы литературы и искусства, прессы и публицистики) в течение нескольких лет довелось тесно сотрудничать с Константином Михайловичем.
В редакции хорошо понимали, что при всей добросовестности, с какой Симонов относился к обязанностям спецкора, его творческие интересы лишь отчасти связаны с газетой. Это были годы напряженной работы над романами и повестями о войне и фронтовыми дневниками другими масштабными замыслами. Мы старались понапрасну не отрывать без большой нужды от главной для него работы, а в чем-то даже облегчать его писательский труд.
Вспоминается такая история. Общаясь с зарубежными журналистами, мы видели, что они очень эффективно пользуются плодами технического прогресса: почти каждый, помимо фотоаппаратуры, имел портативные магнитофоны и диктофоны. Это позволяло им оперативнее готовить материалы и экономить столь дорогое для репортеров время. Наши газетчики такой техникой не пользовались, поскольку подходящих отечественных аппаратов не было, а импортные можно было купить только за валюту, которой редакции не располагали.
Однажды, обсуждая эту тему с главным редактором, я предложил обратиться в ЦК КПСС по поводу закупки диктофонов за рубежом. Тот согласился подписать записку не сразу: просить валюту на подобные цели считалось неприличным. Неожиданно для нас вопрос решили быстро. И партия японских диктофонов со всеми приспособлениями для переписывания на машинках текстов с магнитных лент скоро поступила в редакцию. К немалому удивлению, большинство правдистов, которым предназначались диктофоны, не захотело или не смогло работать с ними. И только Константин Михайлович сразу же сполна оценил и взял на вооружение репортерскую технику. С этого момента и до последнего дня он все свои сочинения надиктовывал на магнитную ленту, что отчасти и объясняет необычайную плодовитость писателя.
На редакционных летучках, партсобраниях, различных творческих встречах в ⌠Правде■ тогда велись дискуссии, приводившие нередко к острым столкновениям мнений, размежеванию позиций. Предметом споров чаще всего была, можно сказать, вечная для журналистов тема - ⌠газета и жизнь■. Как оценить и отразить все перемены, которые происходили в политике, экономике, культуре?
Суждения были разные. Особенно когда речь заходила о литературе, кино и театрах, об отношении к новым явлениям и именам со стороны ⌠Правды■, позиция которой отождествлялась читателем с позицией партии.
И надо сказать, по всем более или менее существенным проблемам, в особенности политического характера, у нас с Константином Михайловичем мнения не расходились. За исключением одного случая.
Когда в августе 1968 года наши войска были введены в Чехословакию, Симонов стал высказывать сомнения в оправданности такой акции. Мне поручили попытаться рассеять эти сомнения и уговорить его подписать письмо видных деятелей науки и культуры, одобряющее действия советского руководства. Наш разговор продолжался не один час, но переубедить собеседника не удалось, письма он не подписал, хотя над высказанными мной соображениями обещал подумать.
Не могу сказать, когда именно К. Симонов попросил освободить от ставших обременительными для него обязанностей спецкора ⌠Правды■. Кажется, вскоре после памятных чехословацких событий. Через пару лет, когда меня перевели в Госкомиздат СССР, наши встречи с Симоновым возобновились, а отношения стали еще более близкими. Чаще всего при встречах обсуждались различные издательские проекты, и, насколько помню, речь шла не о книгах самого Симонова - они выходили без какого-либо напоминания, тем более давления со стороны автора - а об издании книг других писателей, за которых хлопотал Константин Михайлович.
В посмертных публикациях обнародована обширная переписка Симонова, в том числе его письма ко мне. Но поскольку мои письма к нему не приводятся, то симоновские обращения в мой адрес дают однобокие, не всегда точное представление о моих позициях по тем или иным проблемам и о наших отношениях в целом. Дело в том, что во многих письмах из Абхазии (по состоянию здоровья он вынужден был находиться там почти постоянно) содержались предложения и просьбы относительно издания книг некоторых авторов, к которым отношение было неоднозначным. Причем Константин Михайлович нередко напоминал о наших договоренностях, торопил со сроками выпуска книг, высказывался об их составе, оформлении, тираже и т. п. Получается, что Симонов как бы оказывал на меня определенный нажим, выступал в роли защитника несправедливо забытых или неугодных властям писателей. На самом деле между нами царило полное взаимопонимание, а обсуждались лишь частные вопросы. Что же касается возвращения в нашу литературу некоторых имен, публикации полузапретных произведений, то инициатива все-таки чаще исходила от Госкомиздата, а Симонов, как правило, поддерживал ее. Повторяю, это стало бы ясно видно, если познакомиться также и с моими письмами Симонову.
Так, без чьего-либо воздействия Госкомиздат выпустил книгу О. Мандельштама в малой серии ⌠Библиотеки поэта■, а затем действительно по предложению руководства Союза писателей СССР она вышла в большой серии ⌠Библиотеки поэта■. По моему собственному решению (без совета с работниками аппарата ЦК КПСС, ведавшими культурной политикой) вышел сборник Ф. Кафки, считавшегося чуть ли не запрещенным автором. Таким же образом был решен вопрос об издании ⌠Чукоккалы■ (книги высказываний гостей дома К. Чуковского), правда, с некоторыми сокращениями; романа Всеволода Иванова ⌠Ужгинский Кремль■ - экспериментальной вещи, вызвавшей острые споры; и ряд других подобных книг.
Несомненной заслугой Симонова следует признать инициативу издания произведений М. Булгакова, особенно романа ⌠Мастер и Маргарита■, много лет пролежавшего в писательском столе. В первые рукопись романа увидела свет во второй половине 60-х годов в журнале ⌠Москва■, что тогда было смелым шагом редактора. Однако редакции журнала пришлось пойти на уступки цензуре, изъявшей некоторые страницы.
Во время одного из визитов в Госкомиздат Симонов предложил подумать о собрании сочинений М. Булгакова в двух-трех томах. Согласившись в принципе, я в то же время высказался за выпуск для начала однотомника избранных произведений, включив в него три булгаковских романа: ⌠Белую гвардию■, ⌠Театральный роман■ и ⌠Мастера и Маргарину■. Считал это вариант более реальным, ибо издание многотомных собраний сочинений в те времена обязательно согласовывалась с Союзом писателей и отделами пропаганды и культуры ЦК, а уверенности в том, что проект там поддержат, не было. Константин Михайлович воспринял доводы с пониманием. За подготовку вступительной статьи он взялся сам. Но работа над ней оказалась не столь гладкой, как можно было полагать. Первый вариант появился на моем столе примерно через месяц. Как и все, что делал Симонов, она была написана высокопрофессионально, отличалась широтой и нестандартностью суждений. Меня смутила лишь не всегда оправданная восторженность тона, и как показалось, завышенность оценок творчества Булгакова. Возможно, я бы не обратил внимания на эти особенности симоновского материала, если бы не разразившийся как раз в те дни скандал с выпуском последнего (дополнительного) тома ⌠Литературной энциклопедии).
При просмотре верстки тома сотрудники комитета обнаружили множество ошибок и крайне субъективных суждений о литературном процессе. В материалах тома четко прослеживалась линия на умаление роли в отечественной литературе таких корифеев, как М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, Л. Леонов, С. Есенин и др. Им отводилось неоправданно мало места, об их выдающихся произведениях говорилось скупо и подчеркнуто сухо. Но зато писателям и поэтам, не принявшим революцию, оппозиционно и даже враждебно настроенным по отношению к советской власти, особенно из числа эмигрантов, во многих случаях давались неумеренно высокие оценки. Читателю подспудно внушалась мысль о том, что именно ими создавалась настоящая литература, а слава и заслуги многих их тех, кем мы по праву гордимся, сильно преувеличены или вообще ни на чем не основаны.
Как стало ясно позже, это была своего рода проба сил, попытка (и далеко не первая) достаточно влиятельных в творческой среде групп ревизовать наше духовное наследие, принизить, затушевать истинные ценности национальной культуры, постепенно вытеснив их из народного сознания, заменив так называемыми ⌠общечеловеческими ценностями■, космополитическим суррогатом культуры.
В том же томе ⌠Литературной энциклопедии■ была помещена большая статья о М. Булгакове. Ее автор, справедливо оценивая творчество писателя как весьма значительное явление в нашей литературе, в то же время допустил неправомерное его противопоставление другим выдающимся писателям-современникам. В статье утверждалось: как романист, мыслитель и писатель-сатирик он вышел и глубже таких-то и таких-то признанных мастеров литературы. Таким образом, его творчество как бы отрывалось от процессов развития литературы, а многие его крупнейшие предшественники и современники принижались, оттеснялись на второй план.
Естественно, что я приостановил работу над томом и попросил руководство издательства ⌠Советская энциклопедия■ вместе с авторами и редакторами обсудить замечания комитета. Это вызвало бурную, граничащую с истерией реакцию со стороны редакции ⌠Литературной энциклопедии■и ее ⌠актива■. Состоялся острый разговор с Алексеем Сурковым, главным редактором этого издания, славным именем и авторитетом которого прикрывались некоторые недобросовестные критики и литературоведы. Мне стали звонить ⌠оскорбленные■ авторы статей, подвергшихся критике, обвинять во вмешательстве в творчество, в нарушении прав писателя и т. п. Однажды позвонила супруга А. Суркова и потребовала прекратить ⌠травлю и преследование■ мужа. По городу распускались слухи о моем смещении с должности. Поступали жалобы и в ЦК КПСС. Пришлось писать объяснение. Ввиду принципиального характера конфликта этому вопросу было посвящено очередное совещание руководителей средств массовой информации в Отделе пропаганды. На него пришел сам Суслов, что бывало очень редко. В своем выступлении он безоговорочно поддержал позицию Госкомиздата и попросил присутствующих сделать надлежащие выводы.
После окончания совещания ко мне подходили многие из тех, к сем пришлось вести полемику, чтобы засвидетельствовать свою лояльность, согласие с установками, полученными на совещании, и т. д. Процедура не очень приятная. Особенно противно было слышать комплименты в свой адрес и заверения в глубоком уважении со стороны редактора одного из литературных журналов В. О., который, как мне было известно, больше всех старался по части распространения ложных слухов и дискредитации Комитета.
Так закончилась эта история, хотя, разумеется, недруги советской русской культуры не сложили оружия, а лишь немного притихли в ожидании благоприятной для них ситуации (и как мы видим, они взяли реванш в результате перестройки и установления в стране нынешнего режима).
О конфликте с редакцией ⌠Советской энциклопедии■ откровенно рассказал Константину Михайловичу. К его чести он не только поправил статью, но и прямо осудил в ней попытки поставить Булгакова над другими выдающимися писателями, вырвать его из общих процессов нашей литературы: ⌠Любовь к Булгакову заставляет меня с достаточной ясностью сказать, что я не питаю ни малейшей симпатии к тем мнимым доброхотам, которые стремятся к его возвеличению, то прибегая к неумеренным эпитетам, по противопоставляя Булгакова другим его современникам, закономерно составляющим славу нашей литературы■.
Статью немедленно сдали в набор. Но оставалась еще одна закавыка. Прочитав вычеркнутые цензурой места, я не увидел сколько-нибудь серьезных причин для их запрещения. Да, на этих страницах давалось карикатурное изображение нэпмановской России, зло высмеивались корыстолюбие и приспособленчество. Но ведь, в сущности, в таком духе написаны многие страницы романа, причем булгаковская критика была ничуть не злее, чем, скажем, в ⌠12 стульях■ и ⌠Золотом теленке■ Ильфа и Петрова или в сатирических стихах Маяковского.
Позвонил начальнику Главлита Павлу Константиновичу Романову, в которым мы были в добрых, товарищеских отношениях. Выслушав меня, он сказал:
- Если ты берешь ответственность на себя, вмешиваться не буду. Решай по своему усмотрению.
Таким образом, убрали с дороги последнее препятствие, мешавшее ⌠Мастеру и Маргарите■ предстать перед читателем в последней прижизненной авторской редакции. Сборник вышел летом 1973 года тиражом в 30 тыс. экз. И моментально исчез с прилавков книжных магазинов. Пришлось затем не раз переиздавать сочинения Булгакова и прежде всего роман ⌠Мастер и Маргарита■, ставшей сразу же необычайно популярным.
Совместная работа над издательскими проектами еще больше сблизило нас с Константином Михайловичем, хотя встречались мы не так уж и часто. Прогрессирующее легочное заболевание требовало больше тепла и солнца, и Константин Михайлович в последние годы почти постоянно находился в Гульрипши. Когда бывал в Москве, заходил в Госкомиздат, звонил по телефону и всегда предлагал что-нибудь новое.
Работоспособностью он обладал поразительной. До предела занятый своими творческими замыслами, Константин Михайлович находил время для общения со своими коллегами и читателями, был в курсе литературных событий. Одна из его примечательных особенностей - способность искренно радоваться появлению новых талантов, успехам собратьев по перу. Оценивая творчество тех или иных авторов, Симонов часто сравнивал себя с ними, не боясь признать их превосходство, более высокую одаренность. Согласитесь, столь благородные человеческие качества встречаются не так уж часто.
Мне не раз приходилось быть свидетелем щедрого проявления симоновской натуры, а однажды ощутить это непосредственно на себе.
Весной 1978 года Симонов оказался в больнице. Когда я однажды посетил его, то увидел повсюду: на столе, подоконнике, на тумбочке - книги, папки с бумагами, рукописи. Несмотря на ухудшение самочувствия, он ни на один день не прекращал работу. Не помню всех деталей разговора. Щадя Константина Михайловича, старался не вовлекать его в обсуждение каких-то проблем. Рассказал о поездке в США с делегацией издателей, упомянул о нескольких новых книгах, только что выпущенных издательствами, о том, что интересного готовится к печати, и т. п. Он внимательно и заинтересованно слушал, а под конец неожиданно сказал:
- Я плохо знаком с творчеством Василия Кубанева. Когда-то читал несколько его стихотворений, немного слышал о нем. Знаю, что вы работали над его книгами. Не пришлете ли мне одну из них?
На другой же день книга Константину Михайловичу была доставлена, а вскоре я получил от него большое сердечное письмо. Оно настолько характерно для Симонова, что привожу его полностью (ранее оно публиковалось с сокращениями): ⌠Дорогой Борис Иванович, поехал лечиться сюда, в Кисловодск, взял с собой книгу Василия Кубанева, о котором мы с вами говорили. Взял то издание, которое вышло в ⌠Молодой гвардии■ в серии ⌠Тебе в дорогу, романтик■, под названием ⌠Если за плечами только восемнадцать■.
Честно говоря, прочитав эту книгу, я даже как-то удивился - как же это вышло, что только фамилия и имя этого человека где-то застряли у меня в памяти, а все, что с ним связано, прошло мимо сознания. Видимо, просто-напросто не читал, только мельком слышал или видел какие-то стихи, листая один из сборников.
Вы сделали очень хорошее дело, приложив столько усилий, чтобы вернуть из небытия эту редкостную по своим задаткам и по силе души личность, и то, что удалось найти из написанного Кубаневым.
Когда читаешь что-то давно, в годы твоей юности написанное, невольно сличаешь собственные мысли, собственный уровень размышлений и способности, в том числе литературные, со всем этим же самым у человека, которого читаешь. Кубанев моложе меня на шесть лет, и в сущности, и очень многие его стихи, в том числе из лучших, и очень многие записи, в том числе из самых серьезных и не только душевно содержательных, но и политически дальновидных, относятся к тридцать девятому году, когда ему было восемнадцать, а мне - двадцать три, двадцать четыре, и я уже ехал в то лето на Халхин-Гол. Однако в его мыслях того времени - и насчет пакта, и насчет школы, и про то, что однажды крикнув и криком призвав к порядку, придется всю жизнь потом кричать, и многое другое-то многого из этого я, по совести говоря, не допер еще и к двадцати трем-двадцати четырем годам. И уж тем более до многого из этого не дорос тогда, когда мне было, как ему, восемнадцать, где-то в тридцать третьем году. Сравнивая с собой не из эгоцентризма, а просто от себя как-то очевиднее плясать, как от печки, в таких случаях, потому что где-то, когда читаешь эту книгу Кубанева, несколько раз - хочешь не хочешь, а возвращаешься к мысли, что вот ты, сейчас уже старый человек, довольно известный писатель, написавший много книг, прочтенных в общем-то миллионами людей, - вот перед тобой книжка человека, жизнь которого оборвалась на двадцать первом году и который, исходя из твоего собственного сегодняшнего ощущения, обладал в юности большими задатками, чем ты; при этом явно обладал еще характером, это явствует из всего им написанного и подуманного о жизни. А характер в нашем писательском деле тоже полдела.
И вот, прикинув все это, с горечью думаешь, что смерть на двадцать первом году жизни утащила из литературы человека, который, будь он жив, был бы способен сделать в этой литературе и больше, чем ты сам сделал, и больше, чем сделали многие другие, дожившие до твоего возраста писатели. Горькое чувство, заставляющее задним числом с особенной остротой воспринимать именно такие вот давние и безвременные потери.
Наверное, мысли мои сходны с теми мыслями, которые у многих русских литераторов и поэтов были когда-то в девятнадцатом веке в Веневитинове.
Я по привычке своей выписал некоторые вещи, особенно интересные, на мой взгляд, среди того, что напечатано в книге Кубанева. Этих выписок оказалось, даже неожиданно для меня, много. Думаю, что они впоследствии вспомнятся и пригодятся.
Что до самой книжки, то, по-моему, она наилучшим образом составлена: спокойно, разумно, рационально; и тон Вашего предисловия, и тон, найденный в комментариях сестрой Кубанева - все как-то сходится и сливается в единое звучание книги. Последние одно-два десятилетия мне часто приходилось сталкиваться с тем, что нашему, а - шире говоря - нашими поколениям, воспитанным в те предвоенные годы, отказывают в наличии тех мыслей, соображений, чувств, очень непростых и не однолинейных, которые на самом деле имелись в наших головах и в наших сердцах. Мне давно хочется написать об этом, выписки из Кубанева - и из стихов - в меньшей степени, и из писем его и двевниковых заметок, в большей степени - лягут в основу некоторых, весьма существенных для меня, рассуждений и даже, пожалуй, выводов.
Желаю Вам всего доброго, дорогой Борис Иванович, и главное среди всего доброго здоровья.
Ваш Константин Симонов. 5.05.78 г.■.
Запомнилась еще одна встреча с Симоновым. Она состоялась примерно через год, снова в больнице. И оказалась последней.
Как обычно, его палата скорее походила на рабочий писательский кабинет: повсюду книги, бумаги и неизменный диктофон - тот самый, подаренный в свое время ⌠Правдой■. Немного поговорив в палате, вышли в больничный парк. Неторопливо шагая по его аллеям, продолжили начатый разговор.
- Так много задумано и начато, что боюсь не успеть сделать даже самое существенное. Придется сосредоточиться пока на одной или двух вещах. А там видно будет.
Говорил он глуховатым, ровным голосом, и, казалось, вполне спокойно, без каких-либо трагических ноток. Хотя легко можно было почувствовать за этим видимым спокойствием внутреннюю напряженность и сдерживаемое волнение. Он, конечно, знал, что времени у него оставалось совсем немного, и ему было очень важно успеть сделать то, что считал самым важным.
Константин Михайлович упомянул о нескольких замыслах, которые хотел бы ⌠довести до ума■ - это и сценарий фильма о боевом пути одного танкового экипажа, и документальный фильм о Г. К. Жукове, и книга о войне на основе бесед с кавалерами трех орденов Славы и знаменитыми полководцами. Но больше всего ему хотелось бы завершить книгу об И. В. Сталине. Собственно, как мне стало ясно, Симонов пригласил меня, чтобы поговорить именно о судьбе этой книги, которой автор отводил особое место в своей писательской работе.
- Написал, вернее сказать, надиктовал, пока едва ли половину вещи. Еще не перечитывал, не знаю, что же получается. Уж очень необычная работа, может быть сложнейшая из всех.
Симонов пояснил, что ставит перед собой жесточайшее условие - рассказать об И. В. Сталине, о том времени и о себе самом тогдашнем - предельно объективно и справедливо, ни в чем не отступая от принципов историзма. Надо написать только о том, что думал, тогда, и не поддаваться искушению приписать себе нынешние знания и оценки людей и событий, т. е. не делать себя умнее и проницательнее, чем ты был на самом деле. Книга, по-видимому, будет так и называться: ⌠И. В. Сталин глазами человека моего поколения■.
Рассуждая о личности Сталина, Константин Михайлович говорил:
- Придет время, и о гигантской фигуре Сталина будет сказано все до конца. И о великих его заслугах и о страшных преступлениях, ибо человек он был, несомненно, великий и страшный. Но я пока не могу претендовать не полную, всестороннюю оценку личности Сталина. Пишу в меру своих знаний и понимания.
Симонов обещал мне показать рукопись, как только закончит ее, хотя бы вчерне, чтобы посоветоваться, что с ней делать. Как я понял, он считал, что для нее время еще не приспело. Она должна полежать, ибо представлять автору слишком смелой и острой в оценках и выводах. И не было уверенности, что книгу встретят с пониманием.
- Борис Иванович, вы должны знать, что после меня в сейфе останутся, повидимому, две вещи - рукописи о Сталине и о Жукове. Не стоит давать им хода, пока не придет их время. Пусть это случится лет через десять или позже...
Грустный разговор! В силу моего служебного положения, а скорее характера отношений, дружбы с многими видными писателями - современниками мне не раз приходилось чувствовать себя в роли душеприказчика, исполнителем последней авторской воли. Воспринимал это со смешанными чувствами: с признательностью за личное доверие и с пониманием сложности, иногда и невыполнимости пожелания писателя. Что я мог сказать в ответ? Разумеется, заверил Константина Михайловича, что сделаю все от меня зависящее, и тут же попытался перевести разговор на другую тему, чтобы отвлечь его от столь печальных размышлений. Но попытка не удалось.
- Все надо делать вовремя, - спокойно и твердо сказал он.
Наступила довольно продолжительная, томительная пауза. Но вот мы у нужного подъезда, и пора прощаться. Константин Михайлович несильно пожал мне руку и, грустно улыбнувшись, повернулся в сторону входной двери. Я постоял немного, пока он был виден сквозь стеклянную стену вестибюля, невольно обратив вниманию на ставшую более заметной сутуловатость фигуры и тяжеловатую походку. Он шел так, словно нес на плечах невидимый, но непомерно тяжкий груз. Да, в сущности, это был груз пережитых лет, наполненных непрерывным трудом, болью за родную страну, за судьбы близких и очень далеких людей; груз добровольной ответственности за все, что происходило не только с ним, но и вокруг него.
Менее чем через два месяца Москва навсегда прощалась с Симоновым. А его прах, как и было завещано, развеяли над полем недалеко от Могилева, где в июле 1941 года военный корреспондент Константин Симонов стал свидетелем героического подвига защитников окруженного города и получил настоящее боевое крещение.
Я, конечно, не забыл о симоновской воле относительно публикации двух его незавершенных работ. Но случалось так, что мне пришлось перейти на другую работу, а вскоре я оказался в длительной зарубежной командировке. Познакомиться с рукописями не удалось, а их подготовкой к печати занялись надежные люди - близкие друзья писателя. Материалы о Жукове, собранные Симоновым, были опубликованы в 1987 году в ⌠Военно-историческом журнале■, а первая часть книги ⌠Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине■ появилась в журнале ⌠Знамя■ в 1988 году. Прочитал эту вещь с понятным интересом. Симонов выдержал заданные самому себе жесткие рамки - писать только о том, что знал и чувствовал тогда, как воспринимал Сталина и различные события в то время. Автор не покривил душой, написал обо всем честно: ⌠Что было, то было■.
И произошло с этой вещью, нечто, на первый взгляд, странное и как будто бы нелогичное. Когда шла работа над рукописью, автор опасался (и не без оснований), что в его воспоминаниях о Сталине сказано слишком много негативного, неприемлемого. И потому отдавать ее на суд читателя было, пожалуй, рискованно. А спустя почти десять лет, в разгар ⌠перестройки■ и разгула очерничельства советского прошлого симоновская публикация была оценена критикой как слишком лояльная к Сталину, чуть ли не конформистcкая. Многие СМИ, уж тогда оказавшиеся в руках оголтелой антикоммунистической оппозиции, не простили и, по-видимому, никогда не простят объективного, честного, исторически достоверного взгляда Симонова на личность Сталина и его эпоху. Разве могут они согласиться с такими, например, оценками и выводами автора?
⌠Что же хорошее было связано для нас, для меня, в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило, значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много по делам встречался с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно; мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии■.
Да, демократам Симонов не пришелся ко двору. Уже много лет его книги не переиздаются, а литературная критика замалчивает его имя, его очевидные заслуги, даже когда речь идет о литературе времен Отечественной войны и первых послевоенных десятилетий. Но ⌠закрыть■ Симонова невозможно. Его книги есть почти в каждом доме, а интерес к его творческому наследию, к его незаурядной личности не иссякнет. Как никогда не померкнут в народной памяти исторические события теперь уже более чем полувековой давности, которые так талантливо и правдиво изобразил в своих книгах советский писатель и гражданин Константин Симонов.
***
Борис Иванович Стукалин родился в 1923 году в городе Острогожске Воронежской области. Журналистскую деятельность начинал в районной газете, с 1952 по 1956 годы - редактор воронежского ⌠Молодого коммунара■, затем - редактор ⌠Коммуны■, с 1965 года - заместитель, первый заместитель главного редактора ⌠Правды■.
В 1970 году Б. И. Стукалин стал председателем Комитета по печати при Совмине СССР, с 1978 года - Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1982 года - заведующий отделом ЦК КПСС, а с 1985 года - посол СССР в Венгрии. Живет в Москве.

|
|
|
Солнцу ли тучей затмиться, добрея, ветру ли дунуть, - Кем бы мы были, когда б не евреи, страшно подумать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вот и замкнулась дорога скитаний, Вышел к началу земного пути. Годы любви и столетья страданий Смог я до этого дня донести. Что же теперь, начинать всё сначала В белые ливни, в грибные дожди Крикнул, и эхо в ответ прокричало: ╚Наши пути бесконечны иди!╩ Что же по кругу, так, значит, по кругу, В круге начало всему и конец. Чу! Остановка прислушался к звуку Песню заводит залётный скворец. Чудное, дивное, нежное пенье Эхом разносится в круге втором. Так и живём от рожденья к рожденью И никогда, никогда не умрём (Борис Бурмистров. ╚Вот и замкнулась дорога скитаний╩ Наш современник, 2010, ╧ 1). Я не могу назвать это стихотворение плохим. Оно неплохое: в меру классичное, в меру гармоничное, в меру музыкальное, в меру эмоциональное, в меру акварельное. Всего в меру. И такими вот неплохими ровными строфами год за годом заполняются все номера ╚Нашего современника╩ и ╚Москвы╩. Картинка неброской русской природы, воспоминание из детства, целомудренный лирический этюд, сдержанная элегия, робкая публицистика. Всё донельзя культурно, положительно и тоскливо до зевоты. ╚Патриоты╩ не жалуют западный индивидуализм. Но где нет индивидуализма, там нет индивидуальности. Я с первой же строки различу интонацию Беллы Ахмадулиной или Бахыта Кенжеева, Дмитрия Быкова или Олега Юрьева но я не отличу Бориса Бурмистрова от любого другого среднетипичного нашсовременниковского поэта. Может быть, всё-таки индивидуализм не такая уж плохая штука? К счастью, исключения есть везде в том числе в ╚Нашем современнике╩. Я знаю одну прекрасную поэтессу, часто публикующуюся в упомянутом журнале, красота стихов которой именно что уязвляет и оскорбляет. Всякий тупоумный филистер, называющий себя либеральным критиком, считает должным уязвиться и оскорбиться её поэзией. Это Марина Струкова для меня, бесспорно, входящая в десятку (а возможно, и в пятёрку) лучших современных российских молодых (т.е. досорокалетних) поэтов. Необходимо объясниться Разделяю ли я националистические идеи Марины Струковой, продвигаемые ею в поэзии? Нет, не разделяю. Более того, я неоднократно выступал против таких идей, поскольку считаю их потенциально опасными в некоторых публицистических изводах. Но, разумеется, не в изводе поэзии Марины Струковой. Читатель отличается от колпака-филистера тем, что в ╚поэзии с политикой╩ видит поэзию и красоту, тогда как филистер усмотрит там исключительно ╚политику╩, ничего, кроме ╚политики╩. Даже читая дивный цикл Марины Цветаевой ╚Лебединый стан╩, тугоухий филистер захочет возложить на Цветаеву ответственность за ужасы колчаковской контрразведки так уж устроены его затхлые филистерские мозги. Сейчас я скажу такое, что покажется всем филистерам (и филистерам от либерализма, и филистерам от патриотизма) запредельно нелепым (и даже кощунственным) По моему убеждённому мнению, Марина Струкова является прямой творческой наследницей Александра Галича, её поэтика вышла из его жестоковыйно-площадного максимализма. Всякий более-менее чуткий слушатель уловит узнаваемый надтреснуто-воспалённый говорок Александра Аркадьевича, к примеру, вот в этих строчках Струковой: Расставшимся со славою, С бесславием не справиться. Страна золотоглавая Чужой свободой давится. То слева кто-то лязгает, То справа кто-то целится, Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, девица? Все каменные норочки Заполнили разбойнички, Тут по ночам разборочки, Тут по столам покойнички. В столице нежить греется, Заводит речи властные: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Марина Струкова поэтесса романтического полёта; поэту-романтику всегда необходимо что-то ненавидеть и что-то восславлять. Струкова славит некоторые порывы, которые мне не слишком приятны, однако славит не как расчётливо-своекорыстный идеолог, а как пламенный Вальсингам (между прочим, по мне Вальсингам самый симпатичный персонаж ╚Пира во время чумы╩). Боязливый филистер узрит в стихах Струковой лишь чуму, а я вижу в них вдохновенный Вальсингамов пир. Поэзия не живёт без трагедии; в трагическом, катарсическом духе основа и сущность поэзии, её кровь. Нынешняя русская молодая поэзия давно, со времён гибели Бориса Рыжего и Дениса Новикова, не ведает трагедии. Разве сыщешь трагедию у Дмитрия Тонконогова, Михаила Квадратова, Глеба Шульпякова? Чемодан в поезде утащат вот и вся трагедия Стихи Марины Струковой замечательны тем, что возвращают в обескровленную русскую поэзию трагедию подлинную (живую) кровь, не заменимую галлонами искусственного тёпленького физ(лир)раствора. Возвращают жизнь. Ибо где подлинность там жизнь. За суровой стеной патриотического стана есть жизнь, есть поэзия".
|
|
|
|