Журнальный зал "Русского переплета"
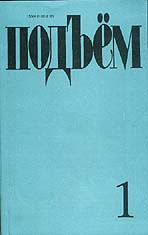 Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
ПОЭЗИЯ
Василий Кубанев
Василий Михайлович Кубанев (1921--1942) родился в селе Орехово Землянского уезда Воронежской губернии. После окончания Мичуринской средней школы стал работать в острогожской районной газете ⌠Новая жизнь■, учительствовал в селе Губаревке, но вскоре снова вернулся в редакцию газеты.
В августе 1941 года был призван в армию. Закончил 9-ю Военно-авиационную школу в г. Кирсанове Тамбовской области. Рвался на фронт, но тяжело заболел, и в марте 1942 года его не стало.
При жизни Василий Кубанев не успел издать ни одной своей книги. Первые его книги вышли в Москве и Воронеже. В Воронеже и Мичуринске учреждены премии его имени.
* * *
Изумруды всех семян и зерен
В души жизнь забрасывает нам.
И, как в самом тучном черноземе,
Прорастают эти семена.
Я следил ревнивым, жадным оком,
Как цвели в душе моей сады,
Наливалися пьянящим соком
Крупные, тяжелые плоды.
От всего берег плоды я эти
И хотел их людям подарить,
Чтоб могли они в других столетьях
Обо мне с любовью говорить.
Но с налету, с громом, с градом, с ветром
Буря ворвалась в мои сады.
И сбывает, бешеная, с веток
Не совсем созревшие плоды...
1936
МЕЧТА
Сквозь щели дубовых, замшелых привычек
Догадкой и выдумкой мир я узнал,
И вместо вопросов, тире и кавычек
Лепил ко всему восклицательный знак.
Сырые наружные вести вжимая,
Я не тяжелею, а просто расту.
Я вырасть не чаю, стареть не желаю.
Я часто мечтаю, взобравшись на стул:
Из выдумок дряхлых и самотиранства,
Из душности душу смыкающих стен
Не выйти -- вломиться в большое пространство,
Чтоб ветер слезящий в ресницах хрустел,
Чтоб жилы трещали, чтобы поры потели,
Чтоб двигаясь -- двигать, горя -- зажигать,
Чтоб жданной находкою стала потеря,
Чтоб резаться и без бинтов заживать,
Чтоб ели меня всевозможные раны,
Отверстостью их, как глазами, ведом,
Я всюду являлся бы нужным и равным,
И всюду мне родина, всюду мне дом.
Все б мнилось по-свойски, радушным и близким,
Во всем я себя самого бы узнавал,
Презревший сужденья, судилища, иски,
Утративший имя, забывший слова,
Расстроенный дюжиной тонких варьяций,
Дышать перестав, продолжающий жить,
Все мельче, все множественней растворяться,
Держать, возражать, отражать и дружить,
Влюбляться в родник, в кукурузу и в камень,
Пленяться грозою и, пеплясь в огне,
Петь трудным, неровным, бескриким дыханьем,
Пить муку, припав к голубой глубине,
Где звезды и визги сколочены вместе,
Где терпкою вечностью пахнет момент,
Где шаг осыпается крупкою в клейстер
И крепости путной не клянчит взамен...
Лишь искры мгновенные -- формы и лица,
Проходят они -- остается тепло.
Должно оно с полымем родственным слиться,
Чтоб в пропасти попусту не утекло.
Мир действием жив, разнороден и светел.
Отдельное -- смертно. Но в смерти его --
Закон и залог мирового бессмертья.
Бессмертья всеобщего и моего.
1937
* * *
Если нету на сердце печали --
Отличишь ли осень от весны?..
Помню, в детстве снились мне ночами
Сказочные, розовые сны.
Я теперь умею слышать жалость
Даже в щебетании лесном,
А тогда мне жизнь еще казалась
Радостным, неповторимым сном.
Отзвенело детство золотое,
Смолк и смех, и песни ранних лет.
И во сне мне видится иное,
Да и в жизни прежнего уж нет.
В жгучей, неосознанной обиде
Об ушедшем с болью я кричу.
Навсегда рассыпалась обитель
Детских снов, мечтаний и причуд.
Из обломков рухнувшего храма
Вынес я к шестнадцати годам
Теплое, большое слово мама
Да под бровью неглубокий шрам...
1937
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Т. Ш.
Не знаю, что со мною сталось:
Душа кровавится в огне,
И тает хрупкая усталость
В ее холодной глубине.
Пусть у моих рыдает ног
Виденье скорби неутешной,
Спокойно мудр я, как пророк,
Неколебимый и безгрешный.
Измучен долгою борьбою,
Я силы в сердце сохраню
И пронесу их над собою
Навстречу завтрашнему дню.
Чтобы осмыслить и изведать
Глубь повседневной суеты;
Чтоб современникам поведать
Свои заветные мечты;
Чтобы ни словом не налгать
Потомкам, вслед за мной идущим?
Чтобы по миру прошагать
В обнимку с солнечным Грядущим.
ДРУГ
Я значительно меньше тебя,
Я, как в море, вручьяюсь в тебя.
Но не брезгуй водиться со мной,
Не спеши разлучаться со мной.
Поднимай своим взглядом меня.
Освещай своим сердцем меня --
Хоть за то, что я меньше тебя.
Я значительно меньше тебя.
Мне не нужно себя без тебя.
Без тебя -- все равно без себя.
Я хочу, чтоб берег ты себя,
Чтоб меня ты любил для себя.
И держался ровнею со мной,
Если можно -- то только со мной.
Я люблю тебя, мученик мой,
Мой мучитель. Скажи, что ты мой,
Береги и бери ты меня,
И своим называй ты меня
Хоть за то, что я меньше тебя.
Я значительно меньше тебя.
1939
ОСЕНЬ
Озноб осенний землю жжет.
Гудят багровые дубравы,
Горят их яркие обновы,
И вот уж лес, как глина, желт.
Расшибла буря гнезд венцы,
В лепешку смяв в припадке диком.
Несутся птахи с хриплым криком,
Покинув милые дворцы.
То в высоту, то с высоты
Летят с закрытыми глазами,
Ломая крылья вдруг кустами,
Ломая крыльями кусты.
А полымя взахлест летит,
Обгладывая жадно кроны.
Пылает каждый клок зеленый,
И каждый лист горит, горит...
1939
* * *
Ты думаешь, мне каска не к лицу
И плотная шинель не по плечу?
Ты думаешь, что я в прямом строю
Сутуловатость окажу свою?
Тебе порой бывает невдомек,
Как от бумаги легкой я далек.
Ты думаешь, что я не запою
Отдельным голосом в густом строю?
На первый взгляд, затем ли надо жить,
Чтобы ружье, как греческий, зубрить?
Ты думаешь, в стреляющем строю
Я не сломлю застенчивость свою?
Тебе тревожно: все, чем сам я жил,
Распотрошит казарменный режим.
Ты думаешь, что в боевом строю
Я разверну несдержанность свою?
Ты думаешь, насильственный расчет
Мою раскиданность перетолчет?
Ты думаешь, в шагающем строю
Я позабуду выдумку свою?
Не беспокойся.
Разве можно
жить
И насовсем о будущем забыть?
Поверь, мой друг, в решительном строю
Я выявлю запальчивость свою.
Я вспомню то, что дома за столом
Кропал своим бесхитростным пером.
Мой друг,
и ручку и тетрадь свою
Держать с собою стану я в строю,
Чтоб помнить всюду,
до какой строки
Дописаны заветные стихи,
Чтобы спокойным выстрелом в бою
Закончить песню новую свою.
1939
* * *
По полю прямому
В атаку идут войска,
Штыки холодеют,
Колотится кровь у виска.
Из дальнего леса,
Из темного леса -- дымок.
Один покачнулся,
К земле прихильнулся и лег.
-- Товарищ, прости нас,
Чуток полежи, погоди,
Придут санитары,
Они там идут позади.
-- Я знаю. Спасибо.
Ребята, вот эту шинель
Потом отошлите
В деревню на память жене.
А кончится битва --
Солдат не судите чужих.
Прошу, передайте:
Я с ними сражался за них.
1940
ОДИНОЧЕСТВО
Весь мир во мне.
Я весь заполнен им,
Весь мир во мне.
Я навсегда один.
Я в мире, мир во мне,
и я один.
Весь мир во мне.
Я весь растянут им.

|
|
|
Солнцу ли тучей затмиться, добрея, ветру ли дунуть, - Кем бы мы были, когда б не евреи, страшно подумать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вот и замкнулась дорога скитаний, Вышел к началу земного пути. Годы любви и столетья страданий Смог я до этого дня донести. Что же теперь, начинать всё сначала В белые ливни, в грибные дожди Крикнул, и эхо в ответ прокричало: ╚Наши пути бесконечны иди!╩ Что же по кругу, так, значит, по кругу, В круге начало всему и конец. Чу! Остановка прислушался к звуку Песню заводит залётный скворец. Чудное, дивное, нежное пенье Эхом разносится в круге втором. Так и живём от рожденья к рожденью И никогда, никогда не умрём (Борис Бурмистров. ╚Вот и замкнулась дорога скитаний╩ Наш современник, 2010, ╧ 1). Я не могу назвать это стихотворение плохим. Оно неплохое: в меру классичное, в меру гармоничное, в меру музыкальное, в меру эмоциональное, в меру акварельное. Всего в меру. И такими вот неплохими ровными строфами год за годом заполняются все номера ╚Нашего современника╩ и ╚Москвы╩. Картинка неброской русской природы, воспоминание из детства, целомудренный лирический этюд, сдержанная элегия, робкая публицистика. Всё донельзя культурно, положительно и тоскливо до зевоты. ╚Патриоты╩ не жалуют западный индивидуализм. Но где нет индивидуализма, там нет индивидуальности. Я с первой же строки различу интонацию Беллы Ахмадулиной или Бахыта Кенжеева, Дмитрия Быкова или Олега Юрьева но я не отличу Бориса Бурмистрова от любого другого среднетипичного нашсовременниковского поэта. Может быть, всё-таки индивидуализм не такая уж плохая штука? К счастью, исключения есть везде в том числе в ╚Нашем современнике╩. Я знаю одну прекрасную поэтессу, часто публикующуюся в упомянутом журнале, красота стихов которой именно что уязвляет и оскорбляет. Всякий тупоумный филистер, называющий себя либеральным критиком, считает должным уязвиться и оскорбиться её поэзией. Это Марина Струкова для меня, бесспорно, входящая в десятку (а возможно, и в пятёрку) лучших современных российских молодых (т.е. досорокалетних) поэтов. Необходимо объясниться Разделяю ли я националистические идеи Марины Струковой, продвигаемые ею в поэзии? Нет, не разделяю. Более того, я неоднократно выступал против таких идей, поскольку считаю их потенциально опасными в некоторых публицистических изводах. Но, разумеется, не в изводе поэзии Марины Струковой. Читатель отличается от колпака-филистера тем, что в ╚поэзии с политикой╩ видит поэзию и красоту, тогда как филистер усмотрит там исключительно ╚политику╩, ничего, кроме ╚политики╩. Даже читая дивный цикл Марины Цветаевой ╚Лебединый стан╩, тугоухий филистер захочет возложить на Цветаеву ответственность за ужасы колчаковской контрразведки так уж устроены его затхлые филистерские мозги. Сейчас я скажу такое, что покажется всем филистерам (и филистерам от либерализма, и филистерам от патриотизма) запредельно нелепым (и даже кощунственным) По моему убеждённому мнению, Марина Струкова является прямой творческой наследницей Александра Галича, её поэтика вышла из его жестоковыйно-площадного максимализма. Всякий более-менее чуткий слушатель уловит узнаваемый надтреснуто-воспалённый говорок Александра Аркадьевича, к примеру, вот в этих строчках Струковой: Расставшимся со славою, С бесславием не справиться. Страна золотоглавая Чужой свободой давится. То слева кто-то лязгает, То справа кто-то целится, Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, девица? Все каменные норочки Заполнили разбойнички, Тут по ночам разборочки, Тут по столам покойнички. В столице нежить греется, Заводит речи властные: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Марина Струкова поэтесса романтического полёта; поэту-романтику всегда необходимо что-то ненавидеть и что-то восславлять. Струкова славит некоторые порывы, которые мне не слишком приятны, однако славит не как расчётливо-своекорыстный идеолог, а как пламенный Вальсингам (между прочим, по мне Вальсингам самый симпатичный персонаж ╚Пира во время чумы╩). Боязливый филистер узрит в стихах Струковой лишь чуму, а я вижу в них вдохновенный Вальсингамов пир. Поэзия не живёт без трагедии; в трагическом, катарсическом духе основа и сущность поэзии, её кровь. Нынешняя русская молодая поэзия давно, со времён гибели Бориса Рыжего и Дениса Новикова, не ведает трагедии. Разве сыщешь трагедию у Дмитрия Тонконогова, Михаила Квадратова, Глеба Шульпякова? Чемодан в поезде утащат вот и вся трагедия Стихи Марины Струковой замечательны тем, что возвращают в обескровленную русскую поэзию трагедию подлинную (живую) кровь, не заменимую галлонами искусственного тёпленького физ(лир)раствора. Возвращают жизнь. Ибо где подлинность там жизнь. За суровой стеной патриотического стана есть жизнь, есть поэзия".
|
|
|
|