Журнальный зал "Русского переплета"
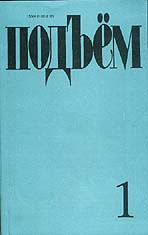 Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
Закрывается то один провинциальный
журнал, то другой - исчезают с карты России островки
духовности и образования, наконец, исторической памяти
народа. "Подъем" является именно одним из таких островков,
к счастью, уцелевших, который собирает мыслящих людей,
людей неравнодушных, болеющих за русский язык и вековые
традиции нашей страны.
ПРОЗА
Евгений Дубровин
В ОЖИДАНИИ КОЗЫ
Отрывки из повести
ТАЙНА МИННОГО ПОЛЯ
Еще издали я увидел, что все в сборе. Дылда шагал по полю с лопатой и копал картошку, а Рыжий и Малыш пекли ее на костре. Костер сильно дымил. Дым тянулся по земле и смешивался с лесным маревом. Значит, будет дождь. Увидев меня, Дылда пошел наперерез.
-- Ты где провалился? -- закричал он еще издали. -- Ждали-ждали и все сожрали. Это я уже по новой! Приезжал дядя Костя, такую требуху приволок!
-- К нам пришел отец, -- сказал я.
У Дылды опустились руки, и картошка из подола рубашки скатилась на землю.
-- Какой... отец?... -- выдавил он из себя, хлопая глазами.
-- Настоящий.
-- Ваш, что ли?
-- Ну да.
-- А откуда он взялся?
-- Из партизан.
-- А-а...
Дылда никак не мог прийти в себя от этой новости. Он смотрел на меня так, словно это я был партизаном.
-- Теперь мы не будем приходить. Отец не разрешает.
Дылда молча собрал картошку, и мы пошли к костру.
-- У Витьки отец пришел! -- заорал Дылда.
Я еще никогда не видел его таким. Всегда он был очень спокойный парень.
Рыжий и Малыш вскочили.
-- Брешешь!
-- Лопнуть мне. Теперь они не будут приходить.
-- А как же на горох сегодня хотели? -- заволновался Малыш.
Пацаны страшно расстроились. Мы все лето были вместе и здорово сдружились.
Дружба наша началась так. Однажды мы с Вадом бродили по лесу и наткнулись на небольшую полянку. Увидев эту полянку, мы так и остолбенели. На ней цвела картошка! Густая, сочная, зеленая! Уже давно вокруг Нижнеозерска из съедобного не росло ничего сочного и зеленого. Даже яблоки-дички остались лишь в самых глухих местах, и за ними надо было ходить к черту на кулички.
Вад с ходу рванулся к картошке, но я его удержал. Недалеко от нас торчала почерневшая палка с прибитой дощечкой:
ОСТОРОЖНО!
МИНЫ!
Сержант Курилов.
Вот почему картошка была цела!
Мы обошли поле со всех сторон. Сержант Курилов был, видно, дядька аккуратный. Дощечки с надписью имелись на каждой стороне, даже на некоторых углах. Рыть картошку на заминированном поле было глупо, и мы, очень расстроенные, поплелись домой. Я уже решил рассказать об этом поле саперам, может быть, они разрешать побыть во время разминирования и дадут нарыть немножко картошки, пока не приедут из сельпо.
Вдруг мы увидели трех пацанов. Они сидели возле костра и шуровали в нем палками. Пацаны были обросшие, в рваных майках, и я сразу понял, что это безотцовщина.
От костра вкусно пахло. Мы остановились и стали глотать слюнки. Пацаны тоже увидели нас.
-- Вали, вали, -- сказал рыжий пацан и зло посмотрел на нас.
-- Картошку печете? -- вежливо спросил я.
-- Не твое дело! Топай! -- еще больше разозлился Рыжий. Видно, это был очень нервный пацан.
-- Копаете? И мин не боитесь?
-- Дылда! -- закричал Рыжий. -- Дай вот этому большому в глаз! А я маленькому!
-- Ладно, -- сказал добродушно длинный пацан. -- Пусть себе идут. Только, братва, здесь не шатайтесь. Тут все наше.
-- И минное поле ваше?
-- Не... Оно ничейное... Мины там... Недавно коза подорвалась.
-- Ну раз так...
Я зашагал к минному полю.
-- Стой! -- заорали хором все трое.
-- Куда ты?! -- вцепился в меня Вад.
-- Отстань! Знаю, что делаю!
-- Дурак! Взорвешься! -- переживал больше всех Рыжий.
Но я спокойно подобрал сучок, дошел до поля и стал копать картошку. Я уже догадался, в чем тут дело. Мне сразу показался подозрительным аккуратный почерк сержанта Курилова. Как же, есть у него время сидеть и выводить каждую буковку. И потом -- где же это здесь подорвалась коза? Что-то я не увидел ни одной воронки, а глаз у меня на эти дела наметанный. Если поле заминировано, воронки обязательно будут, ставишь ты столбы или нет. Заяц там, волк или даже просто суслик -- они читать не умеют, все равно проволочку кто-нибудь зацепит. Я уж не говорю, что троица не зря облюбовала себе это место. Кто бы это стал жечь костер возле минного поля, чуть ли не с краю? Разве что маменькины сынки какие. А эти, видно, ребята тертые, безотцовщина. Ловко они придумали: посадили весной картошку, а может быть, просто нашли посадку, поставили столбы и сиди себе пеки картошечку все лето, еще и на зиму останется.
Я нарыл полный подол, наложил картошки в карманы. Вад стоял неподалеку и таращил на меня глаза: он ничего не понимал.
Безотцовщина встала из-за костра и двинулась ко мне. Наверно, все-таки будет драка. Лишь бы у них не оказалось ножей.
-- Бей большого, Дылда! Бей! -- закричал Рыжий. -- А я другому врежу.
Рыжий подскочил к Ваду и замахнулся, но мой брат подставил ему ребро ладони, и Рыжий взвыл от боли. У Вада была железная ладонь. Он нарочно набил ее себе. Ходил целыми днями и стучал о различные предметы. Даже ночью, бывало, проснется и стучит.
-- Это наша картошка! -- пропищал третий пацан, лопоухий заморыш. -- Дылда, чикни их ножичком! Чикни!
Такой маленький, а такой кровожадный.
Дылда колебался. Он пыхтел и вращал глазами то на своих, то на нас. Это был сильный пацан, но, видно, не очень находчивый. Положение было опасным.
-- Но позвольте, -- сказал я. -- Еще совсем недавно вы говорили, что это поле ничейное, а сейчас вы утверждаете, что оно ваше и собираетесь даже нас бить. Где же логика? Надо быть справедливым. Император Веспасиан всегда был справедливым. Ни разу не оказалось, что казнен невинный -- разве что в его отсутствие, без его ведома или даже против его воли. Гельвидий Приск при возвращении императора из Сирии один приветствовал его Веспасианом, как частного человека, потом во всех своих преторских эдиктах ни разу его не упомянул, но Веспасиан рассердился не раньше, чем тот разбранил его нещадно, как плебея. Но и тут, даже сослав его, даже распорядившись убить, он всеми силами старался спасти его: он послал отозвать убийц и спас бы его, если бы не ложное донесение, будто он уже мертв. Во всяком случае, никакая смерть его не радовала, и даже над заслуженной казнью случалось ему сетовать и плакать.
Цитату из жизни императора Веспасиана пацаны выслушали молча. У Малыша был какой-то пришибленный вид, да и остальные выглядели не лучше. Цитировать дальше биографию Веспасиана я не решился. Дылда пригладил себе затылок, исподлобья посмотрел на меня и сказал:
-- Ну ладно, пошли есть картошку, небось погорела.
Мы, наверно, с полчаса молча ели картошку. Пацаны косились на меня, но прямо смотреть в глаза избегали.
-- Ничего себе справедливый, -- сказал Дылда наконец. -- За болтовню кокнул.
-- Императора нельзя называть плебеем, -- пояснил я. √ Это страшное оскорбление.
-- Гад он, твой... Веспасан, гад, -- убежденно сказал Дылда. -- Ни за что кокнул человека.
-- Пусть скажет, откуда он узнал эту муть? -- крикнул Рыжий.
-- Шастает тут и треплет про царей! Может, он шпион!
-- В милицию его! -- пропищал Малыш. -- А будет брыкаться -- ножичком!
Я понял, что это совсем темные пацаны и стал рассказывать про Веспасиана и других римских императоров. Сначала они ничему не верили, особенно похождениям Нерона, но потом, в отличие от взрослых, стали слушать внимательно. В общем, с того дня у нас началась дружба, и только Рыжий еще долго подозревал меня в том, что я или дурачок, или шпион.
А вообще эти трое ребят были что надо. Кровожадный Малыш оказался добрейшим пацаном, это он просто форсил перед остальными. Дылда, хоть и туго соображал, но зато был парнем честным и добрым. Правда, вот Рыжий часто раздражался по пустякам, но у Рыжего получилась очень тяжелая жизнь: после войны в живых осталась одна бабка, и та недавно умерла. Рыжего забрали в детский дом, но он оттуда удрал. Сейчас его искали, и он жил здесь вроде бы как беглый каторжник.
Эти пацаны оборудовали хороший блиндаж, еда у них была, и они проводили время на этом минном поле не так уж плохо. Дома их не особенно ждали: про Рыжего я уже говорил, а Дылда жил у старшего брата, который только что женился и не очень волновался, если Дылда не приходил ночевать. Малыша же мать сама прогоняла из дому, так как в их комнате каждый вечер собиралась веселая компания.
Конечно, с минным полем они придумали здорово, хоть и не до конца: догадливый человек сразу мог определить, в чем тут дело. Но в Нижнеозерске очень боялись мин, а там, где начинаются мины, кончается догадливость. Правда, один мужик привел саперов, те прочесали поле, ничего не нашли, свалили столбы, нарыли картошки и ушли. Конечно, когда этот мужик на следующий день явился с тачкой за картошкой, то столбы стояли на своих местах. И хоть мужик знал, что мин здесь нет, рыть не решился. На том знал лишь почтальон дядя Костя, но он был у пацанов своим человеком.
Дядя Костя обычно появлялся под вечер. Еще издали было слышно, как он ругался, натыкаясь на коряги и стволы деревьев. Затем показывался велосипед с деревянными шинами, на котором восседал сам дядя Кости в рваной гимнастерке, но в новенькой фуражке с лакированным козырьком. Дяде Косте всегда хотелось соскочить лихо у самого костра, но это ему никогда не удавалось. Он или на большой скорости проносился по костру и поднимал целую тучу дыма и пепла, или плюхался прямо в костер. Потому что дядя Костя всегда был навеселе.
Жизнь дяди Кости делилась на две части: до Победы и после Победы. Всю войну дядя Костя, единственный почтальон на весь Нижнеозерск, носил похоронки (нам принес тоже он). Дядю Костю боялись. Все понимали, что почтальон тут ни при чем, но те, кому он приносил похоронки, потом при встречах отворачивались, а некоторые плевали вслед. Даже собаки почему-то не лаяли на дядю Костю, а поджимали хвосты и забивались в подворотни. Никто не дружил с дядей Костей, никто не приглашал его в гости. В свободное время дядя Костя одиноко бродил по поселку, пугая людей.
Но после Победы все изменилось. Вместо похоронок дядя Костя стал носить письма о скором приезде солдат. Теперь, когда он приносил письмо, дядю Костю обнимали, целовали и подносили стаканчик. Письма приходили пачками, и под вечер почтальон выписывал по дороге на велосипеде восьмерки. Особенно хорошо дядю Костю встречали на мясокомбинате, потому что он доставлял почту прямо на рабочие места. Часто почтальона награждали требухой или другим каким мясом, и сторож в проходной смотрел на это сквозь пальцы.
К нам дядя Костя ездил из-за Малыша. Он хотел его усыновить. Он упрашивал Малыша каждый вечер, но Малыш не соглашался. Почтальон соблазнял его и супом из требухи, и контрамарками в кино (дяде Косте везде был свободный вход), и велосипедом. Но Малыш не поддавался даже на велосипед, потому что он все-таки ждал убитого отца. Тогда многие убитые приходили.
Мы долго не понимали, почему Малыш так ждет отца, а потом он рассказал нам сам. Однажды, это было давно, когда Малышу еще было совсем мало лет, он проснулся от плача матери. Малыш вскочил и выбежал в другую комнату. Там стоял высокий человек с белыми курчавыми волосами и обнимал мать. Малыш очень испугался, но мать, плача и смеясь, сказала, что это его отец и что его надо любить.
Белый курчавый человек отпустил мать, взял на руки Малыша и спросил, катался ли когда Малыш на большом, до самого неба, колесе?
-- Нет,-- ответил Малыш.
-- А на самолете? -- спросил человек.
-- Нет, -- ответил Малыш.
-- А на пароходе?
И на пароходе Малыш не катался.
-- Я тебя покатаю и на колесе, и на самолете, и на пароходе, -- пообещал человек. -- И на ослике, и на слоне. Мы целый год с тобой будем ездить и кататься. И еще мы залезем с тобой и с мамой на такую гору, откуда видно сразу два моря.
-- Когда? Завтра? -- спросил Малыш.
-- Скоро, -- ответил отец. -- Ты только жди.
Утром заплаканная мать сказала, что отец приходил на одну ночь и что он ушел на войну и вернется не скоро. Но Малыш не поверил матери. Он терпеливо ждал отца и каждый день спрашивал у матери, сегодня ли он придет. Сначала мать плакала, а потом плакать перестала и один раз, когда Малыш спросил при чужом дяде, больно ударила его. С тех пор Малыш перестал спрашивать про отца, но даже сейчас, когда уже стал большим, продолжал ждать его.
Почти до вечера мы говорили о нашем отце, который свалился будто снег на голову.
Вдруг в кустах послышались треск и ругань совсем с другой стороны, чем всегда. Видно, дядя Костя сбился с дорожки и шпарил напрямик. Значит, сегодня он поддал как следует.
Но оказалось, что я ошибся. Просто дядя Костя был очень возбужден. Он довольно удачно соскочил с велосипеда и закричал, размахивая конвертом.
-- Ну, кто будет плясать?!
Мы ошалело уставились на него.
-- Полевая почта! -- пояснил дядя Костя. -- Чей-то отец нашелся.
-- Это мой! -- заорал Малыш и побежал к дяде Косте.
Вскочил со своего места и Дылда. Глаза его впились в конверт. Даже Рыжий насторожился.
-- На! -- дядя Костя протянул мне конверт. √ Скажешь матери, с нее магарыч. Да ты не рад, что ли?
ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
Домой я возвращался очень неохотно. Предстояло продолжение разговора об императоре Веспасиане. Но дома не было блиндажа, где можно укрыться от увесистых аргументов отца. По дороге я прочитал письмо. Отец подробно описывал, что произошло с ним, как его ранило, как он попал в плен, как бежал в партизаны, как воевал во Франции. Он писал, что мать, наверно, получила похоронку, что прошло много времени и, может быть, у нее уже другая семья. Вот почему он решил не приезжать, а написать письмо. Он просил ответить быстро и откровенно. И еще он просил отдать кого-нибудь из нас. Теперь я вспомнил, что отец в первый же вечер спрашивал, получали ли мы письмо, а потом сам ходил встречать почтальона.
Я спрятал письмо в карман. А вдруг оно поможет выкрутиться?
Чем ближе я подходил к дому, тем медленнее передвигались мои ноги. Хорошо, если бы родители ушли куда-нибудь, например, в кино. Но отец не любил кино. Он говорил, что там все придумано.
Я открыл калитку и замер. Летняя печь посреди двора, на которой мы обычно готовили обед, была разрушена. Вокруг валялись перепачканные отцовские майки и трусы, до этого они сушились на веревке, прикрепленной к трубе печки. На кустах, как на новогодних елках, висели котлеты из картошки.
Я сразу догадался, что здесь произошло. Ваду приходилось таскать картошку мимо отцовских трусов и маек, и они, видно, все время напоминали ему об ударе ложкой по лбу. Наконец они так растравили его душу, что он решил их взорвать вместе с печкой. Наверно, Вад начинил порохом (у нас были солидные запасы) несколько консервных банок и бросил их вместе с дровами в печку.
Из дома слышались крики. Очевидно, там шла расправа. Я дернул дверь, но она оказалась закрытой. Тогда я влез на завалинку и заглянул в окно. Отец гонялся за Вадом по комнате со своим толстым трофейным ремнем и кричал:
-- Признавайся, негодяй, ты взорвал? Ты зачем взорвал?
Мать металась между отцом и Вадом. Ее настроение менялось каждую минуту. То она кричала на отца:
-- Хватит! Слышишь! Дорвался! Ты ему повредить что-нибудь можешь!
А то, все же прикрывая Вада собой, как наседка цыпленка, еще больше распаляла отца:
-- Толя, всыпь этому зверенышу! Они и дом скоро спалят! Это же надо придумать -- бомбу в печку бросить! Да не бей его ремнем! Ты лучше его за уши отдери!
Отец отбросил ремень, поймал Вада и стал трепать его за уши:
-- Проси прощения, сопляк! Скажи, что в руки больше не возьмешь эту гадость!
-- Ну хватит тебе! У него и так уши длинные! -- Мать оттолкнула отца и заплакала. -- В кого же они такие уродились? Мать с отцом сил не жалеют...
-- Я им покажу! Они у меня узнают! Каждый день буду пороть, как сидоровых коз! -- кричал отец, застегивая ремень.
Я спрыгнул с завалинки. На крыльцо вышел Вад. Уши его горели.
-- Больно? -- спросил я.
Но Вад только усмехнулся. Это была очень нехорошая усмешка.
-- Пойдем на выгон футбол погоняем, -- предложил я.
Вад покачал головой и усмехнулся второй раз. Эта усмешка была еще хуже первой.
-- Пойду полежу, -- сказал он.
-- Ты собираешься мстить?
Вад усмехнулся в третий раз.
Пойду полежу, -- повторил он.
Когда я, натаскав в бочку воды, зашел в комнату, Вад лежал, отвернувшись к стенке, и как будто спал. Я внимательно осмотрел комнату, но не нашел ничего подозрительного. Только у порога валялся маленький кусочек бикфордова шнура. Раньше его там не было.
-- Вад, -- сказал я, дотронувшись до его плеча. √ Ты заминировал? Может, не надо? А, Вад?
Брат не ответил.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ
Я долго не мог заснуть, ожидая начала военных действий. Что они начнутся, я не сомневался. Не такой человек Вад, чтобы простить сегодняшнее. На всякий случай я положил в карманы немного еды и лег спать обутым. Я заметил, что Вад тоже спал обутым.
Мирно тикал будильник, верещал возле печки сверчок и под потолком пикировали комары. Дверь в соседнюю комнату, где спали отец с матерью, была открыта. Оттуда слышался шепот. Мать читала отцу мораль.
-- Кто этак обращается с детьми? К ним подход нужен, а ты битьем да битьем. Озлобил их вконец.
-- Сама же говорила...
-- Надо постепенно... Огрубел ты на войне...
-- Откуда я знаю, как с ними надо... Пришел, а старший уже совсем взрослый... Все знает, учит даже... Шел, думал -- помощники есть, хату свою построим, козу купим, кроликов разведем. А тут бои похлеще, чем на войне...
-- Поигрался бы с ними... Дети ведь... Да и не знают они тебя. Привыкли одни... Книжку, как с ними надо, почитал бы... Говорят, есть такие книжки...
-- Может, и есть... Да после всего, что там было, чего насмотрелся... нервы не держат... -- Отец помолчал. -- Книжки... Меня отец кнутом драл... Вот и вся грамота...
-- Ты не такой... ты хороший... Мы тебя так ждали... А потом, когда пришла похоронка... когда пришла похоронка...
-- Не надо...
Они то затихали, то снова начинали шептаться, и мать долго еще всхлипывала. И чтобы успокоить ее, отец рассказывал, как бежал из плена. Он рассказывал каждую ночь, этому рассказу не было конца, потому что отец забывался и повторял по многу раз одно и то же, всегда с новыми подробностями. Особенно часто вспоминал он один момент. Они перешли линию фронта, развели костер, напекли картошки, достали заветную флягу спирта и отпраздновали конецбчетырехмесячным скитаниями. А ночью отец проснулся оттого, что на него кто-то смотрит. Это были немцы. Как потом их били сапогами, как вели старым путем в лагерь, как вешали, он рассказывал вскользь, но вот о том, как он проснулся и встретился с чужим взглядом и как это было страшно, он говорил каждый раз многословно, сбиваясь и повторяясь.
И тогда начинала его успокаивать мать. Обычно она рисовал картины нашего ближнего будущего.
-- Вот подожди... построим дом... купим козу...
Услышав о козе, отец затихал, и она начинали придумывать козе имя и гадать, какая она будет.
Вот и сейчас мать шептала:
-- Давай выберем со звездочкой на лбу.
-- Вот еще... при чем здесь звездочка?
-- У ней молоко жирнее.
-- Чепуха...
-- Спроси у любого пастуха.
Они заспорили о звездочке, но в это время посреди комнаты что-то зашипело, и желтый столб пламени взвился вверх. Я удивился реакции отца. Из нашей комнаты было видно -- он, как кошка, сорвался с кровати и растянулся на полу. Наверно, он это сделал машинально, как на войне, когда рядом что-либо взрывалось. Полежав немного, он встал и ничего не делал минут пять. Мать тоже ничего не делала, даже не плакала. В темноте белели их неподвижные фигуры. Порох сгорел, и малиновая консервная банка медленно остывала посреди комнаты.
Все-таки Вад жестокий человек.
-- Ах, негодяи, вот негодяи, -- пробормотал отец. -- Где мой ремень... Я им сейчас... Где ремень?..
Пора был сматываться. Но Вад продолжал спокойно лежать на кровати, вроде бы все еще спал. Он даже немного похрапывал.
Слышно было, как отец шарил по стульям, ища брюки. Вдруг послышалось новое шипение, и под ногами отца полыхнуло. Он отскочил.
-- Ах, негодяи!
-- Толя! Не ходи! Они взорвут тебя! -- закричала мать.
-- Это не дети! Разве это дети?
При свете догоравшей консервной банки было видно, что отец вытащил наконец свой страшный ремень и идет к нам.
-- Вад, бежим! -- крикнул я.
Брат вскочил на кровати во весь рост. В руках он держал какой-то предмет. Чиркнула спичка.
-- За родину! Смерть оккупантам! -- крикнул Вад и метнул пылающую банку, как гранату! Горящий порох рассыпался по всему полу, преградив босому отцу дорогу.
Мы выскочили в сени. Задвижка была предусмотрительно отодвинута.
...В темном переулке мы остановились.
-- Напрасно ты... -- сказал я. -- Надо было что-нибудь другое. Ему и так взрывы надоели.
-- Ничего. Пусть знает, как со мной связываться, -- буркнул Вад мстительно.
-- Рекс! -- вдруг воскликнул я. -- Он выследит нас. Бежим к реке. Надо запутать следы.
И мы побежали к реке.
Я забыл рассказать про Рекса. Это немецкая овчарка. Она пришла с войны вместе с отцом. Когда он в тот вечер заглядывал в окно, овчарка, оказывается, уже вела подкоп в сени: она думала, что в доме немцы. Рекс воевал с отцом в партизанском отряде. Как рассказывал отец, Рекс прошел огонь и воду и может делать, что хочешь. Например, таскать раненых. Отец даже показал, как делает это овчарка. По его приказанию Рекс схватил отца за ногу и протащил по двору.
У нас с Рексом как-то сразу установились неважные отношения. Во-первых, он сжил со света нашего Шарика, очень преданную и добродушную собаку. Он отнимал у нее пищу, издевался каждый день и довел до того, что Шарик куда-то исчез. Во-вторых, он относился к нам очень пренебрежительно, вроде бы мы не высшее по сравнению с ним существа. У него не было даже простого уважения к человеку, исключая, конечно, отца (они очень нежно приветствовали друг друга по утрам, а уходя спать, отец говорил: ⌠Спокойной ночи, Рекс■, а тот отвечал: ⌠Гав-гав■ и дергался, как ненормальный). По-моему, этот Рекс сильно подозревал нас в чем-то; во всяком случае, он следил из своей конуры за каждым нашим движением, а если рядом оказывался отец, то этот ⌠партизан■ всегда стоял на предельном натяжении цепи, каждую секунду готовый рвануться и защитить своего любимца. Мне кажется, он принимал нас за фашистов.
Разумеется, мы платили ему полнейшим презрением. Мы вели себя так, будто его не существовало вовсе. Он это чувствовал и ненавидел нас еще больше.
Вот почему мы, не теряя времени, побежали к реке. Будь ты хоть сверховчаркой, а в воде ничего не найдешь. Все шпионы уходят от погони только по воде.
⌠ИШЬ, ХОТЕЛ ПОДЛИЗАТЬСЯ...■
Отношения с Вадом у нас совсем испортились. Брат не хотел ни делать кизяки, ни рвать траву, ни копать огород. Этот фанатик считал, что я предал ⌠Братьев свободы■, и решил мне мстить. Фантазия его была неистощима. Он сыпал мне в пищу пригоршнями соль, сжигал под кроватью солому, опрокидывал на меня холодную воду, грубил.
Мне все это здорово надоело, но я сдерживал себя. Моя мягкая тактика еще больше злила брата.
Я сдержал себя даже тогда, когда он с фанатичными выкриками сжег на костре мою единственную фотографию.
Я сдержал себя и в другом, более серьезном случае, когда он сжег книгу писателя Александра Дюма ⌠Три мушкетера■, выменянную мною в Нижнеозерске за настоящее сиденье с подбитого танка, который я первым обнаружил в лесу.
Он сжег книгу писателя Дюма, нагло, прямо на моих глазах, полив ее керосином, а потом раскидал по двору палкой обгорелые куски. Он ожидал, что я кинусь на него и буду терзать, как бульдог куропатку, а он будет стоять, скрестив руки на груди, с улыбкой на устах, но я, скрипнув зубами, прошел мимо, словно это горела не книга писателя Александра Дюма, за одно прочтение которой многие согласны были отдать трофейный тесак или еще что.
--Эй! -- закричал вслед Вад. -- Смотри! Сжег твоего Дюму!
Я достал платок, высморкался и небрежно засвистел.
Праздник сожжения был испорчен. Вад бросил палку и пошел вслед за мной.
-- Я все сожгу, -- грозил он. -- И книги, и тетради, даже твои штаны. Я думал, что ты хороший человек, а ты Диктатор. Зачем ты прогнал дядю Авеса? Мне не с кем играть. Тебя подкупил Он. Я знаю, ты ждешь Его. Я слышал, ты проболтался во сне. Ты стал девчатником. Я ненавижу тебя!
Вад поднял камень и швырнул мне в спину. Я второй раз достал платок, второй раз высморкался и второй раз засвистел.
-- Бей меня! Почему ты не бьешь? -- крикнул Вад. -- Я сжег Дюму!
Я ускорил шаг, продолжал свистеть.
-- Ну хорошо! Я устрою тебе сеанс! -- сказал мрачно Вад и повернул назад.
Вечером, возвратившись с работы, я принял все меры предосторожности. Прежде чем войти в дом, я привязал веревку к ручке двери, спрятался за угол и дернул. Дверь распахнулась. Ничего не произошло. Я вошел в сени.
-- Вад! -- крикнул я. -- Брось свои штучки! Хуже будет.
Я надел на голову ведро, защитил грудь цинковым корытом и вдвинулся в комнату. В комнате никого не было.
Неужели Вад отмочил номер -- удрал в Нижнеозерск? Вещи вроде бы все на месте...
Я вышел во двор и осмотрел все закоулки. Брата нигде не было. И вдруг из палисадника послышался стон. Я бросился туда. Вад лежал в траве, уткнувшись лицом в землю. Его тело было неестественно изогнуто. Я схватил его голову и повернул лицом к себе. Лицо у Вада было как у мертвеца.
-- Что с тобой?.. Кто это тебя?.. Вад, ты слышишь?
-- Сам... спрыгнул с дома... Теперь тебе уж не отвертеться... Теперь тебе здорово влетит от Него... не помогут ни кизяки, ни волы... Ишь... хотел подлизаться...
Брат закрыл глаза и улыбнулся бледной кривой улыбкой...
Было уже утро, когда я с моряками вернулся в Утиное. Мы не доехали до больницы. Вад умер на полпути, и мы привезли его назад...
На крыльце, придавленное камнем, лежало письмо.
В. Синюцкий район,
село Утиное
Виктору Анатольевичу Бородину
(сыну кузнеца, что встал на постой в крайней хате),
в собственный руки.
На обратной стороне был неумело нарисован летящий голубь с письмом в клюве, под которым стояло: ⌠Лети скорей к моим деточкам■.
Я осторожно отклеил марку и развернул треугольник из синей плотной бумаги.
⌠Дорогие мои сыночки!
Как вы там без нас? Не голодаете? Все думаю о вас каждую минуту. Молоко в рот не идет, когда вы там сидите голодные, на одной каше.
Козу мы купили очень хорошую, -- ласковая, со звездочкой и молока дает много, а есть совсем мало. По дороге делаю сыр из творога. Очень вкусный. Принесем домой много сыру.
Сейчас мы идет днем и ночью, так хочется увидеть вас. Отец и то соскучился. Хмурится, ворчит на вас, какие вы проказники, а сам молоко совсем не пьет, чтобы вам больше сыру досталось. Места здесь глухие, идти очень страшно. Овраги одни, деревень совсем мало и люди встречаются редко. Я уж отцу говорю, давай ночью не идти, а он больно уж спешит. Очень бы нам Рекс пригодился, но пусть лучше вас охраняет. Не злите его и не забывайте подливать в миску водички.
Дорогие мои сыночки! Осталось уже совсем немножко. Скоро обниму вас и напою молочком. Смотрите ведите себя хорошо, а самое главное √ не уходите далеко из дома, вы такие еще маленькие.
Сейчас сижу, пишу вам письмо на почте, а отец стоит рядом и торопит. Обнимаю вас крепко, дорогие мои, не голодайте, одевайтесь потеплее, дни уже стали прохладные■.
Я стоял на пороге пустого и холодного дома и читал письмо. Утреннее солнце грело мою влажную после ночного дождя фуфайку, и она тревожно пахла мокрой соломой.
Дорога была пуста до самого горизонта, но в каждый момент там могли показаться родители с бегущей сзади козой. И мне придется отчитаться за все. Я тогда еще не знал, что мои родители никогда не придут и мне не перед кем отвечать.
Я ждал их всю осень и зиму, а потом еще года два ходил по тем деревням, куда они ездили, что тогда много было пришлого народу: шли в родные места или искали лучшего края, и многие пропадали бесследно. Такое уж тогда было время. После миллионов смертей дешево ценилась простая человеческая жизнь.
-- С козой шли? -- спрашивала какая-нибудь старушка. -- Убили небось. Могли... тогда могли за козу...
* * *
С тех пор прошло немало лет. У меня самого уже сын, который скоро пойдет в школу. Все реже снятся родители, и я уже почти не помню их лиц. Полные приключений годы детства кажутся теперь прочитанными в какой-то книге. Лишь осталось от всего этого тревожное чувство перед пустынной дорогой. Так и кажется, что вдали покажутся двое с козой, и мне придется держать ответ за все, что делал не так...
Евгений Пантелеевич Дубровин (1936--1986) родился в Таловой Воронежской области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, учился заочно в Литературном институте имени М. Горького. Работал инженером-технологом на острогожском ремонтном заводе литсотрудником газеты ⌠Путь Ленина■, ответственным секретарем многотиражной газеты ⌠Учитель■ Воронежского пединститута. В 1965 году стал заместителем редактора газеты ⌠Молодой коммунар■,
а затем и редактором; с 1971 года -- заведующий отделом, а с 1975 года -- главный редактор всесоюзного сатирического журнала ⌠Крокодил■. Автор многих повестей и рассказов, изданных в Москве и других городах СССР, а также за рубежом.

|
|
|
Солнцу ли тучей затмиться, добрея, ветру ли дунуть, - Кем бы мы были, когда б не евреи, страшно подумать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вот и замкнулась дорога скитаний, Вышел к началу земного пути. Годы любви и столетья страданий Смог я до этого дня донести. Что же теперь, начинать всё сначала В белые ливни, в грибные дожди Крикнул, и эхо в ответ прокричало: ╚Наши пути бесконечны иди!╩ Что же по кругу, так, значит, по кругу, В круге начало всему и конец. Чу! Остановка прислушался к звуку Песню заводит залётный скворец. Чудное, дивное, нежное пенье Эхом разносится в круге втором. Так и живём от рожденья к рожденью И никогда, никогда не умрём (Борис Бурмистров. ╚Вот и замкнулась дорога скитаний╩ Наш современник, 2010, ╧ 1). Я не могу назвать это стихотворение плохим. Оно неплохое: в меру классичное, в меру гармоничное, в меру музыкальное, в меру эмоциональное, в меру акварельное. Всего в меру. И такими вот неплохими ровными строфами год за годом заполняются все номера ╚Нашего современника╩ и ╚Москвы╩. Картинка неброской русской природы, воспоминание из детства, целомудренный лирический этюд, сдержанная элегия, робкая публицистика. Всё донельзя культурно, положительно и тоскливо до зевоты. ╚Патриоты╩ не жалуют западный индивидуализм. Но где нет индивидуализма, там нет индивидуальности. Я с первой же строки различу интонацию Беллы Ахмадулиной или Бахыта Кенжеева, Дмитрия Быкова или Олега Юрьева но я не отличу Бориса Бурмистрова от любого другого среднетипичного нашсовременниковского поэта. Может быть, всё-таки индивидуализм не такая уж плохая штука? К счастью, исключения есть везде в том числе в ╚Нашем современнике╩. Я знаю одну прекрасную поэтессу, часто публикующуюся в упомянутом журнале, красота стихов которой именно что уязвляет и оскорбляет. Всякий тупоумный филистер, называющий себя либеральным критиком, считает должным уязвиться и оскорбиться её поэзией. Это Марина Струкова для меня, бесспорно, входящая в десятку (а возможно, и в пятёрку) лучших современных российских молодых (т.е. досорокалетних) поэтов. Необходимо объясниться Разделяю ли я националистические идеи Марины Струковой, продвигаемые ею в поэзии? Нет, не разделяю. Более того, я неоднократно выступал против таких идей, поскольку считаю их потенциально опасными в некоторых публицистических изводах. Но, разумеется, не в изводе поэзии Марины Струковой. Читатель отличается от колпака-филистера тем, что в ╚поэзии с политикой╩ видит поэзию и красоту, тогда как филистер усмотрит там исключительно ╚политику╩, ничего, кроме ╚политики╩. Даже читая дивный цикл Марины Цветаевой ╚Лебединый стан╩, тугоухий филистер захочет возложить на Цветаеву ответственность за ужасы колчаковской контрразведки так уж устроены его затхлые филистерские мозги. Сейчас я скажу такое, что покажется всем филистерам (и филистерам от либерализма, и филистерам от патриотизма) запредельно нелепым (и даже кощунственным) По моему убеждённому мнению, Марина Струкова является прямой творческой наследницей Александра Галича, её поэтика вышла из его жестоковыйно-площадного максимализма. Всякий более-менее чуткий слушатель уловит узнаваемый надтреснуто-воспалённый говорок Александра Аркадьевича, к примеру, вот в этих строчках Струковой: Расставшимся со славою, С бесславием не справиться. Страна золотоглавая Чужой свободой давится. То слева кто-то лязгает, То справа кто-то целится, Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, девица? Все каменные норочки Заполнили разбойнички, Тут по ночам разборочки, Тут по столам покойнички. В столице нежить греется, Заводит речи властные: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Марина Струкова поэтесса романтического полёта; поэту-романтику всегда необходимо что-то ненавидеть и что-то восславлять. Струкова славит некоторые порывы, которые мне не слишком приятны, однако славит не как расчётливо-своекорыстный идеолог, а как пламенный Вальсингам (между прочим, по мне Вальсингам самый симпатичный персонаж ╚Пира во время чумы╩). Боязливый филистер узрит в стихах Струковой лишь чуму, а я вижу в них вдохновенный Вальсингамов пир. Поэзия не живёт без трагедии; в трагическом, катарсическом духе основа и сущность поэзии, её кровь. Нынешняя русская молодая поэзия давно, со времён гибели Бориса Рыжего и Дениса Новикова, не ведает трагедии. Разве сыщешь трагедию у Дмитрия Тонконогова, Михаила Квадратова, Глеба Шульпякова? Чемодан в поезде утащат вот и вся трагедия Стихи Марины Струковой замечательны тем, что возвращают в обескровленную русскую поэзию трагедию подлинную (живую) кровь, не заменимую галлонами искусственного тёпленького физ(лир)раствора. Возвращают жизнь. Ибо где подлинность там жизнь. За суровой стеной патриотического стана есть жизнь, есть поэзия".
|
|
|
|